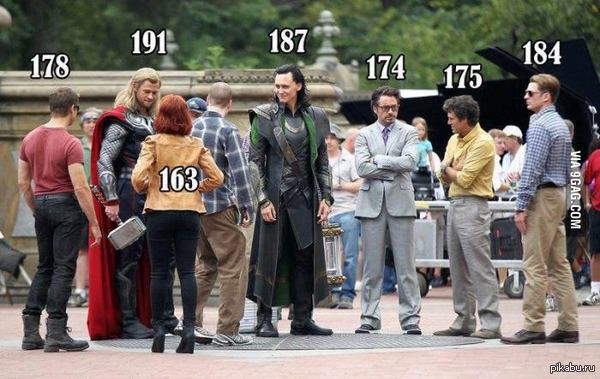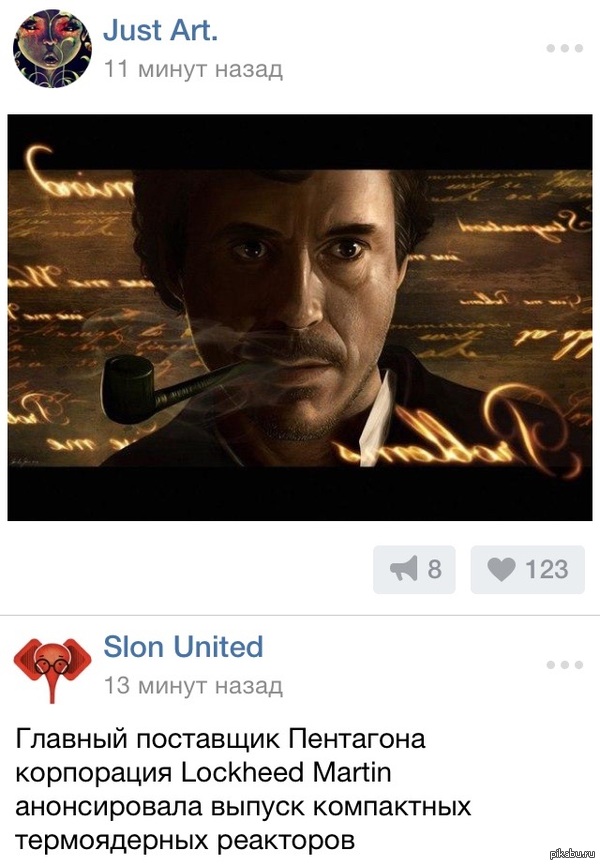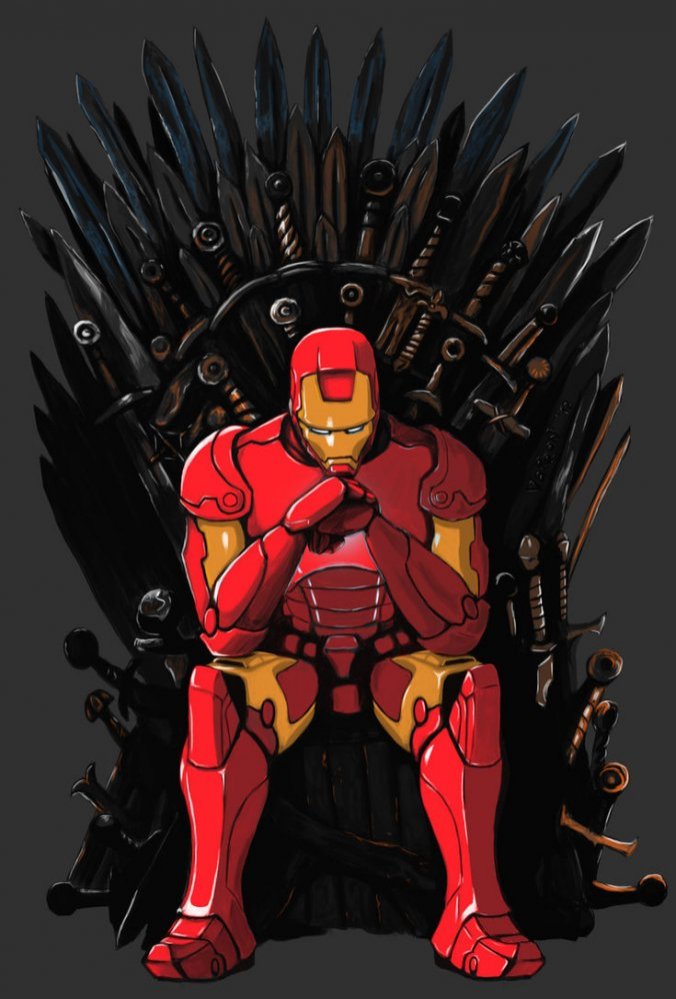пятница, 17 мая 2019
11:32
Доступ к записи ограничен
Пойду посплю, так от меня вреда меньше.
Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра
суббота, 23 января 2016
суббота, 03 января 2015
Пойду посплю, так от меня вреда меньше.

среда, 08 октября 2014
Пойду посплю, так от меня вреда меньше.
Пойду посплю, так от меня вреда меньше.
Признание двух молодых людей виновными в изнасиловании 16-летней женщины, находящейся без сознания, в Стеубенвилле, Огайо, должно привести нас к столь необходимой дискуссии об отношении к сексуальным преступлениям и о методах обучения и социальных переменах, к которым мы должны в итоге придти.
К сожалению, освещение вердикта большей частью основных средств массовой информации было отвратительным: сочувствие выражалось не жертве, а насильникам. Однако в ответ на это появилось много превосходных публикаций в блогах, например, пост Меган Карпентер в Гардиан (The Guardian).
Требуется многое для того, чтобы прекратить сексуальные преступления. Но, вот хотя бы одна вещь: когда я выступаю в университетских кампусах и школах, я часто бываю поражен наразберихой относительно того, что является, а что не является сексуальным согласием. Это, плюс продолжающаяся вера в мужское право на сексуальное обеспечение и культура молчания вокруг многих форм насилия на гендерной почве, составляют ужасающий рецепт, который слишком часто приводит к сексуальному насилию.
Во время этих выступлений в кампусах и школах, я фокусируюсь на том, что я называю четырьмя правилами сексуального согласия. Частично они были сформированы семинаром моего коллеги и друга Гарри Брода, который, как и я, был вдохновлён феминистскими активистками и мыслительницами, работающими над тем, чтобы прекратить насилие над женщинами.
Текст ниже перепечатан из моего буклета, "Мужской разговор", и также появился в "Руководстве по феминизму для парней". Хотя он адресован мужчинам и фокусируется на отношениях мужчины и женщины, они, безусловно, применимы ко всем нам, с кем бы мы ни были.
Четыре правила согласия
У нас есть название для любого вида сексуального действия, когда один человек не хочет того, что делает с ним другой человек. Это сексуальное преступление.
Согласие - это когда оба соглашаются делать одно и тоже и ставят другого человека в известность. Существуют четыре правила согласия:
Правило 1: Когда речь идёт о сексе, только "да" значит "да"."Может быть" не значит "да". "Наверное" не значит "да". "Посмотрим" не значит "да". А "нет" никогда-никогда не значит "да". Если только вы не хотите совершить преступление, вы должны услышать "да", чтобы получить согласие и, аналогично, должно быть "да" с вашей стороны тоже.
Пример: "Эй, хочешь сорвать одежду и заняться сексом?" "Да, звучит отлично." Вот это согласие.
Правило 2: Вы обязаны знать, что вы получили согласие. Когда полицейский останавливает вас за превышение скорости, вам не поможет, если вы скажете "Офицер, я не знал, что тут ограничение по скорости." То же самое с сексом, целуете ли вы кого-то, ласкаете ли, или идёте до конца. Это ваша обязанность - изучить границы другого человека, а его обязанность - изучить ваши. Вы не можете просто "верить", что он(а) хочет делать то, что делаете вы, вам надо знать наверняка. И помните, что сказать "нет" не является её обязанностью, это ваша обязанность знать, что она сказала "да". Некоторые говорят: "Как можно узнать наверняка?" Мой друг Гарри отвечает, "Как вы можете не хотеть знать этого? Вы можете представить, как проснётесь однажды утром, гадая, не насильник ли вы?" Иначе говоря, как вы можете не хотеть хорошего секса?
Правило 3: Ничего, из того что вы уже сделали, не даёт вам разрешения сделать следующий шаг. Вы целуетесь как сумасшедшие, она полностью увлечена; это должно означать, что можно засунуть руку ей под рубашку. Неправильно. Вы сняли одежду и не можете оторваться друг от друга; это должно означать, что можно заняться сексом. Неправильно.
Дело в том, что пока вы не вовлечены в постоянные отношения и не выработали набор правил, каждый раз, когда вы переходите на новый "уровень" вы должны получить согласие.
Некоторые скажут "Это отстой. Это полностью нарушит кайф."
Я бы соврал, если бы не сказал, что в этом есть доля правды. С другой стороны, если вы оба будете знать, что вы делаете то, что хотите, будет в тысячу раз больше сексуальной энергии, чем если один человек будет отрываться, а другой предпочёл бы посмотреть старые фильмы по телевизору, или чувствует себя некомфортно, или испуган.
Даже лучше, потому что вы оба будете знать наверняка, и потому что вам придётся говорить о том, что вам нравится, а что нет, мы, парни, будем намного лучше в постели.
Правило 4: Если вы пьяны до беспамятства, вы не можете давать или получать согласия. Если кто-то из вас слишком пьян, или слишком обкурен, чтобы полностью осознавать, что вы делаете, тогда получить информированное согласие невозможно. Вы не можете дать его и не можете знать, что вы действительно получили его. После этого никто из вас не будет думать, что вы насильник.
Отсебятина
Эта статья кажется мне очень здравой и правильной. Надо учить (в основном мальчиков и мужчин) спрашивать согласия, также надо учить (в основном девочек и женщин) защищать свои границы и говорить прямо и открыто, когда что-то идёт не так ("Конечно, такая схема может несколько усложнить жизнь некоторым людям, привыкшим якобы "считывать сигналы другого", но зато облегчит её всем остальным, не обладающим столь развитыми телепатическими навыками. Третий пункт, относительно получения согласия перед каждым шагом, вызвал негодующие комментарии уже в оригинальном посте (типа "Что же я должен спрашивать? Это будет так двусмысленно. Неужели я должен спрашивать каждый раз, когда хочу передвинуть руку на пару дюймов?" , и я бы сказала, что лучше пережить несколько неловких мгновений, задав пару лишних вопросов вроде "Можно я...? Ты не против если я....?", чем сделать что-то, что может быть неприятно другому.
, и я бы сказала, что лучше пережить несколько неловких мгновений, задав пару лишних вопросов вроде "Можно я...? Ты не против если я....?", чем сделать что-то, что может быть неприятно другому.
К сожалению, освещение вердикта большей частью основных средств массовой информации было отвратительным: сочувствие выражалось не жертве, а насильникам. Однако в ответ на это появилось много превосходных публикаций в блогах, например, пост Меган Карпентер в Гардиан (The Guardian).
Требуется многое для того, чтобы прекратить сексуальные преступления. Но, вот хотя бы одна вещь: когда я выступаю в университетских кампусах и школах, я часто бываю поражен наразберихой относительно того, что является, а что не является сексуальным согласием. Это, плюс продолжающаяся вера в мужское право на сексуальное обеспечение и культура молчания вокруг многих форм насилия на гендерной почве, составляют ужасающий рецепт, который слишком часто приводит к сексуальному насилию.
Во время этих выступлений в кампусах и школах, я фокусируюсь на том, что я называю четырьмя правилами сексуального согласия. Частично они были сформированы семинаром моего коллеги и друга Гарри Брода, который, как и я, был вдохновлён феминистскими активистками и мыслительницами, работающими над тем, чтобы прекратить насилие над женщинами.
Текст ниже перепечатан из моего буклета, "Мужской разговор", и также появился в "Руководстве по феминизму для парней". Хотя он адресован мужчинам и фокусируется на отношениях мужчины и женщины, они, безусловно, применимы ко всем нам, с кем бы мы ни были.
Четыре правила согласия
У нас есть название для любого вида сексуального действия, когда один человек не хочет того, что делает с ним другой человек. Это сексуальное преступление.
Согласие - это когда оба соглашаются делать одно и тоже и ставят другого человека в известность. Существуют четыре правила согласия:
Правило 1: Когда речь идёт о сексе, только "да" значит "да"."Может быть" не значит "да". "Наверное" не значит "да". "Посмотрим" не значит "да". А "нет" никогда-никогда не значит "да". Если только вы не хотите совершить преступление, вы должны услышать "да", чтобы получить согласие и, аналогично, должно быть "да" с вашей стороны тоже.
Пример: "Эй, хочешь сорвать одежду и заняться сексом?" "Да, звучит отлично." Вот это согласие.
Правило 2: Вы обязаны знать, что вы получили согласие. Когда полицейский останавливает вас за превышение скорости, вам не поможет, если вы скажете "Офицер, я не знал, что тут ограничение по скорости." То же самое с сексом, целуете ли вы кого-то, ласкаете ли, или идёте до конца. Это ваша обязанность - изучить границы другого человека, а его обязанность - изучить ваши. Вы не можете просто "верить", что он(а) хочет делать то, что делаете вы, вам надо знать наверняка. И помните, что сказать "нет" не является её обязанностью, это ваша обязанность знать, что она сказала "да". Некоторые говорят: "Как можно узнать наверняка?" Мой друг Гарри отвечает, "Как вы можете не хотеть знать этого? Вы можете представить, как проснётесь однажды утром, гадая, не насильник ли вы?" Иначе говоря, как вы можете не хотеть хорошего секса?
Правило 3: Ничего, из того что вы уже сделали, не даёт вам разрешения сделать следующий шаг. Вы целуетесь как сумасшедшие, она полностью увлечена; это должно означать, что можно засунуть руку ей под рубашку. Неправильно. Вы сняли одежду и не можете оторваться друг от друга; это должно означать, что можно заняться сексом. Неправильно.
Дело в том, что пока вы не вовлечены в постоянные отношения и не выработали набор правил, каждый раз, когда вы переходите на новый "уровень" вы должны получить согласие.
Некоторые скажут "Это отстой. Это полностью нарушит кайф."
Я бы соврал, если бы не сказал, что в этом есть доля правды. С другой стороны, если вы оба будете знать, что вы делаете то, что хотите, будет в тысячу раз больше сексуальной энергии, чем если один человек будет отрываться, а другой предпочёл бы посмотреть старые фильмы по телевизору, или чувствует себя некомфортно, или испуган.
Даже лучше, потому что вы оба будете знать наверняка, и потому что вам придётся говорить о том, что вам нравится, а что нет, мы, парни, будем намного лучше в постели.
Правило 4: Если вы пьяны до беспамятства, вы не можете давать или получать согласия. Если кто-то из вас слишком пьян, или слишком обкурен, чтобы полностью осознавать, что вы делаете, тогда получить информированное согласие невозможно. Вы не можете дать его и не можете знать, что вы действительно получили его. После этого никто из вас не будет думать, что вы насильник.
Отсебятина
Эта статья кажется мне очень здравой и правильной. Надо учить (в основном мальчиков и мужчин) спрашивать согласия, также надо учить (в основном девочек и женщин) защищать свои границы и говорить прямо и открыто, когда что-то идёт не так ("Конечно, такая схема может несколько усложнить жизнь некоторым людям, привыкшим якобы "считывать сигналы другого", но зато облегчит её всем остальным, не обладающим столь развитыми телепатическими навыками. Третий пункт, относительно получения согласия перед каждым шагом, вызвал негодующие комментарии уже в оригинальном посте (типа "Что же я должен спрашивать? Это будет так двусмысленно. Неужели я должен спрашивать каждый раз, когда хочу передвинуть руку на пару дюймов?"
 , и я бы сказала, что лучше пережить несколько неловких мгновений, задав пару лишних вопросов вроде "Можно я...? Ты не против если я....?", чем сделать что-то, что может быть неприятно другому.
, и я бы сказала, что лучше пережить несколько неловких мгновений, задав пару лишних вопросов вроде "Можно я...? Ты не против если я....?", чем сделать что-то, что может быть неприятно другому.Пойду посплю, так от меня вреда меньше.
Капризы — то есть стремление добиться чего-то запрещенного, или невозможного, или бессмысленного — принято считать формой детского поведения, причем такой, которую надо подавлять и ни в коем случае не поощрять. Между тем капризы имеют большой биологический смысл. Часто это демонстрация, основанная на потребности ребенка обратить на себя внимание. Очевидна биологическая значимость подобных действий — без внимания матери шансы на гибель ребенка многократно возрастают. Порой капризничают и взрослые люди, и домашние животные. Такое поведение у людей расценивают как инфантильное (если речь идет не о беременной), у животных — как результат плохой дрессировки. Однако нередко капризное поведение бывает основано на других потребностях — это одна из разновидностей смещенной активности, метод защиты от неконтролируемости ситуации.
Понятие неконтролируемости
Контролировать ситуацию означает не обязательно влиять на нее, но — понимать закономерности происходящего. Большая часть людей и животных имеет такую потребность. Многие домашние собаки, когда хозяин нечаянно наступает им на хвост или на лапу, начинают извиняться, демонстрируют умиротворяющее поведение: виляют хвостом и стремятся лизнуть хозяина в нос и в губы. Собака знает, что хозяин может причинить боль только в наказание, значит, она сделала что-то нехорошее. Если же в событиях окружающего мира животное не может уловить закономерности, то часто это приводит к расстройствам поведения.
В начале ХХ века в лаборатории И.П.Павлова его сотрудница Н.Р.Шенгер-Крестовникова вырабатывала у собаки сложный условный рефлекс, но задача оказалась неразрешимой. Собака не могла различить две геометрические фигуры, одна из которых сопровождалась появлением пищевого подкрепления, а другая — нет. Три недели бесплодных попыток понять закономерность появления пищи привели животное в состояние, которое мы теперь называем выученной беспомощностью. Собака постоянно пыталась вырваться из экспериментальной установки, все время поскуливала, и, самое примечательное, у нее пропали все ранее выработанные условные рефлексы.
Принципиально важно то, что в этом эксперименте собака не испытывала никакого физического дискомфорта. Ей не причиняли боль, не пугали, она не голодала — животных вечером кормят в виварии независимо от того, насколько успешно они вырабатывали рефлексы. Психику собаки травмировал один лишь психологический фактор — невозможность установить зависимость, согласно которой появляется положительное подкрепление, то есть неконтролируемость ситуации.
Подчеркнем еще раз: когда говорят о неконтролируемом стрессе, на человека или животное необязательно воздействуют стимулы неприятные, болезненные или вредные. Достаточно сделать появление стимула непредсказуемым, а всю ситуацию, следовательно, неконтролируемой. Например, крысу обучают нажимать на педаль, чтобы получить порцию воды. После того как условный рефлекс становится прочным, педаль отключают. Вода периодически появляется в поилке, но это происходит не тогда, когда крыса давит на педаль, а когда нажимает на педаль крыса в соседней клетке, о чем наша экспериментальная крыса, естественно, не знает. Спустя неделю неконтролируемого водопоя у крысы формируется выученная беспомощность.
Еще один принципиальный момент в эффектах неконтролируемости — невовлеченность интеллекта. Состояние выученной беспомощности развивается не потому, что интеллект оказывается бессильным. Животное или человек не предпринимают сознательных интеллектуальных усилий для поиска закономерностей окружающей среды. Попытки делаются на бессознательном уровне. Об этом свидетельствуют результаты экспериментов, в которых состояние выученной беспомощности после неконтролируемого воздействия было сформировано у тараканов и улиток. У беспозвоночных животных нет мозга, у них есть только нервные узлы — ганглии, которые заметно уступают головному мозгу млекопитающих по сложности. Соответственно и формы поведения у беспозвоночных гораздо проще, чем у млекопитающих. Но условные рефлексы насекомые и моллюски вырабатывают достаточно легко. А условный рефлекс формируется на основании связи (которую И.П.Павлов называл «временнóй») между различными изменениями в окружающей среде. Если же такая связь неочевидна, то ситуация становится неконтролируемой, в результате формируется выученная беспомощность.
Состояние выученной беспомощности используют как модель депрессии человека, но сейчас оно интересует нас как инструмент управления поведением, поскольку в этом состоянии подавляются волевые свойства личности.
Неконтролируемость как метод манипуляции
Человек с выученной беспомощностью лишается воли. У него пропадают желание разбираться в закономерностях сложного окружающего мира и желание что-либо предпринимать, каким-то образом влиять на этот мир. Экспериментальные животные, которых подвергали неконтролируемым воздействиям, утрачивают способность к выбору. Даже сильные воздействия, такие, как раздражение электрическим током, не вызывают у них естественной для всего живого реакции избегания. Люди с выученной беспомощностью не совершают никаких самостоятельных действий, а лишь ожидают прямого указания — что, как и когда нужно сделать.
Поэтому иногда неконтролируемость ситуации создается намеренно. Например, в армиях некоторых стран главным считается не обучить новобранца военной специальности, а заставить выполнять приказы не рассуждая. Для этого необходимо подавить волю человека, его стремление к самостоятельности, склонность к рассуждениям, присущие в той или иной мере каждому человеку. Иррационализм армейской службы создается и поддерживается искусственно.
Значительно чаще неконтролируемые ситуации люди создают своим близким совершенно бессознательно, искренне полагая, что они желают им только добра.
Муж не ограничивает неработающую жену в расходах, но требует отчета с точностью до рубля. Ведь учет и контроль — основа экономической стабильности. Не говоря о том, что именно он зарабатывает деньги, поэтому имеет право знать, куда они уходят. При этом женщина чувствует себя несчастной.
Женщина дарит зятю стринги (реальный случай!). Ведь она сексуально опытнее своей дочери и лучше знает, какие части фигуры данного мужчины стоит подчеркнуть. Но молодая жена недовольна таким поступком своей матери.
Левше запрещают пользоваться левой рукой. Ребенок не в состоянии понять, почему нельзя держать ложку или карандаш так, как ему удобно, почему его наказывают за это. Левша, которого переучивают на правшу, постоянно находится в неконтролируемой ситуации.
Родители правшей тоже запрещают своим детям многое. Ведь они лучше знают, что опасно и вредно для ребенка, а что полезно. Но дети очень часто протестуют против родительского контроля и системы запретов. Протесты подрастающего поколения, а порой и взрослых членов семьи проявляются в форме странных поступков, иногда и таких, которые называют неадекватными. На самом же деле это, возможно, социально неприемлемые, но адекватные реакции — попытки создать субъективно контролируемую ситуацию. Большинство людей старается достичь хотя бы иллюзии контроля над ситуацией, на которую невозможно повлиять. Это помогает избежать состояния выученной беспомощности.
Смещенная активность как защита от неконтролируемости
В фашистской Германии были созданы «трудовые лагеря», в которые помещали людей, неугодных режиму, в первую очередь — недовольных. Основным методом воздействия на психику была неконтролируемость ситуации. Правила внутреннего распорядка постоянно менялись, о чем заключенным не сообщали. Разрешенное вчера сегодня оказывалось запрещенным и наказуемым. Кроме того, широко использовалась иррационализация, например, заключенным приказывали выкопать яму — срочно, быстро, еще быстрее! Как только яма была готова, следовала команда закопать ее. И опять — быстрее, время «на отлично» кончается, кто не справится, будет наказан!
Через несколько месяцев такого режима заключенный утрачивал волевые импульсы. Ему не приходило в голову попытаться понять происходящее, не говоря о критическом осмыслении. На свободу выходил человек, который верит всему, что слышит по радио, и беспрекословно выполняет указания руководящих товарищей.
В такой лагерь попал и психолог Бруно Беттельхайм. Как профессионал, он очень быстро понял методологию воспитания. Он назвал этот метод «формированием детского мироощущения». Действительно, маленькому ребенку непонятен окружающий мир. Часто он не только не в состоянии постичь закономерности окружающей его среды, но даже не может сформулировать вопросы. Почему на стул забираться — можно, на стол — лучше не надо, а на подоконник — нельзя ни в коем случае, никогда? Непостижимо. Для маленького ребенка единственная возможная стратегия поведения — абсолютное подчинение взрослым. Ничего нельзя делать, предварительно не испросив разрешения. Любая инициатива наказуема.
Будучи психологом, Беттельхайм разработал и метод противодействия формированию выученной беспомощности — делать все, что прямо не запрещено. Не запрещено чистить зубы — чисти. Причем не потому, что ты заботишься о гигиене полости рта, а потому что это — твое решение. Не запрещено делать физические упражнения — делай зарядку. Опять же не потому, что заботишься о тонусе мышечной, сердечно-сосудистой и прочих систем организма, а потому, что ты не выполняешь приказ, а реализуешь свое решение.
Беттельхайм пробыл в лагере девять месяцев. Выйдя на свободу, уехал в США и там написал большую работу о своем опыте пребывания в неконтролируемой ситуации. По Беттельхайму, основа метода предупреждения выученной беспомощности — использование смещенной активности. Попытки прямого воздействия на неконтролируемую ситуацию обречены на неудачу. Ни избежать, ни избавиться от всех неприятных воздействий невозможно. Нельзя ни приспособиться к ним, ни предсказать появление стимулов. Терпеть и ждать, «когда это все закончится», тоже бесполезно, поскольку окончание воздействия также непредсказуемо. Но можно сделать ситуацию контролируемой субъективно. Для этого достаточно проявлять активность, даже не направленную на избавление от действующих стимулов, — а просто активность.
Смещенная активность по определению лишена биологического смысла, поскольку не направлена на удовлетворение актуальной потребности. Она возникает в тех случаях, когда у животного или человека по разным причинам нет готовой программы действия. В таких ситуациях используется двигательный стереотип другой мотивации. Но в ситуации длительной неконтролируемости у смещенной активности несколько неожиданно появляется биологический смысл — спасение от выученной беспомощности.
В простейшей модели неконтролируемой ситуации — иммобилизации на спине — половине крыс давали в зубы деревянную палочку. У этих животных физиологические и поведенческие изменения по окончании иммобилизации были значительно меньше, чем у тех, кто был лишен возможности грызть палочку. Уместно вспомнить, что во время наказания кнутом истязаемому человеку вкладывали в рот кожаный ремень, чтобы он не отгрыз себе язык.
Выученная беспомощность развивается у крыс, получающих удары током, которых они не могли ни избежать, ни предсказать, сидя в маленькой клетке. Но если такое же болевое раздражение получали крысы в большой клетке, где они могли бегать, то выученная беспомощность не формировалась. Активное движение хотя и не уменьшало боли, но предотвращало развитие пагубных для организма изменений в психике. Хотя ситуация была объективно неконтролируемой — удары электрическим током достигали цели, возникала иллюзия контроля, животное что-то делало.
Аналогичным образом выученная беспомощность не формируется у крыс, которых помещали в клетку с «электрическим» полом попарно. Получая удары током, эти крысы дрались друг с другом. Несмотря на многочисленные раны, по окончании болевого воздействия поведение этих животных было значительно ближе к норме, чем у крыс, которые страдали поодиночке.
Этот механизм психологической защиты — субъективизация контроля ситуации — проявляется в постоянных драках заключенных, какими бы гуманными ни были условия содержания в исправительно-трудовых учреждениях. Заметим, что избежать выученной беспомощности в ситуации тотальных запретов и непредсказуемых наказаний можно и не затевая драк. Как уже говорилось, можно делать все, что прямо не запрещено, причем не только чистить зубы и заниматься физкультурой. В час пик в метро (это, конечно, не тюрьма, но все же ограничение свободы) сочиняйте стихи, решайте в уме математические задачи, переводите анекдоты на английский язык. Все это будет проявлением вашей воли, и в этой сфере именно вы и только вы будете полностью контролировать ситуацию.
К сожалению, прав был Ф.М.Достоевский, когда заметил, что всякий интеллект — болезнь. В отличие от животных, многие люди в неконтролируемой ситуации вместо проявления смещенной активности стремятся восстановить контроль. Если эти попытки оказываются бесплодными, они только ускоряют формирование выученной беспомощности.
Однако у многих людей мы наблюдаем адекватный защитный механизм — смещенную активность, которая окружающим часто кажется капризами.
Капризы как форма смещенной активности
Поступки детей часто кажутся взрослым дикими и непонятными. А между тем это лишь попытка показать себе, что именно он (она) управляет ситуацией. Ребенок и сам был бы рад хорошо учиться, заниматься спортом, дружить с хорошими мальчиками и девочками, а с плохими не дружить. Ему хотелось бы не пить и не курить. Но он знает, что все эти формы поведения будут реализацией родительских желаний, то есть он пойдет на поводу у взрослых. А вот лазить по крышам, перебегать железнодорожные пути перед близко идущим поездом, ездить на велосипеде по автомагистрали — все это родители категорически не одобрили бы. Следовательно, подобное поведение будет его решением, его поступком, которым он доказывает себе, что управляет своим поведением, то есть контролирует ситуацию.
Родителям очень трудно удержаться от того, чтобы контролировать поведение детей. Взрослый человек и лучше предвидит отдаленные последствия поступков, и сделает все быстрее, лучше и надежнее. Куда проще надеть на ребенка все необходимое для прогулки, чем ждать, когда он сам оденется. Но, выйдя из дома, ребенок тут же снимет рукавички — назло маме пусть руки мерзнут! Собираясь на дачу, мама отбирает у ребенка огромного медведя — ну куда его, и так все руки заняты, — но этим она подчеркивает, что решения принимает только она, а от ребенка ничего не зависит. В результате всю долгую поездку в метро и в электричке ребенок капризничает. Этим он субъективизирует контролируемость окружающего мира.
В одном из современных фильмов есть такой эпизод. Дети просят мать завести котенка, она отказывает, тогда дети покупают котенка на деньги, сэкономленные на завтраках. Мать тут же отдает котенка в хорошие руки, и больше разговоров о кошке не возникает. А в финальной сцене дети приходят домой, и их встречает улыбающаяся мать с котенком у ног. По мысли авторов фильма, это, вероятно, бодрый финал, мажорный аккорд. В действительности все это очень печально. Женщина лишний раз показала детям, что от их поведения, от их желаний ничего не зависит, ситуацию контролирует мать и только мать.
В одном из романов Марининой девушка, работавшая секретаршей у своего отца, передавала его секреты конкурентам и более того — добилась в конце концов, чтобы папу посадили в тюрьму. Дело в том, что отец продолжал контролировать поведение совершеннолетней девушки так, как будто она оставалась ребенком. В частности, выписывая ей зарплату, обычную для секретарши бизнесмена, на руки выдавал ту же мизерную сумму, что и в школьные годы. Примечательно, что девушка не осознавала мотивов своего поведения, тех потребностей, которые стремилась удовлетворить. Сама она считала, что страдает из-за невозможности покупать дорогие вещи, посещать дорогие клубы и тратить деньги другими способами. Но, став наследницей и получив финансовую независимость, она быстро убедилась, что затратная светская жизнь ей неинтересна. Оказалось, что вся драма разыгралась из-за родительского гиперконтроля.
В основе поступков взрослых людей тоже порой лежит стремление к субъективизации контроля ситуации. Человек, поведение которого полностью контролируется супругом, может вдруг завести любовника (любовницу). И в основе этого поведения будет не влюбленность, не поиски новизны, а лишь бессознательное желание совершить нечто явно не одобряемое контролером. В рассказе Мопассана «Бомбар» муж, регулярно получавший от богатой жены незначительную сумму на самочинные мужские расходы, почти всю ее передавал служанке — «здоровенной бабе, красной и коренастой», — за что та позволяла совокупляться с собой на черной лестнице. И на следующий день, сидя с удочкой в тростниках, муж кричал от радости: «Надули хозяйку!»
Если человек вынужден заниматься работой, которая не приносит ему внутреннего удовлетворения, он всегда имеет какое-то хобби, зачастую весьма дорогостоящее. На потраченные деньги человек мог бы съездить в далекие страны, сделать в квартире евроремонт или даже обеспечить себе безбедную старость. Но неинтересная работа — ситуация неконтролируемого стресса, и человек бессознательно спасается от депрессии, предаваясь любимому занятию. Хотя, с точки зрения окружающих, это совершенно пустое дело, вздорная трата денег, каприз!
Тот же механизм — субъективизация контроля поведения — работает иногда и у домашних питомцев. Большинство хозяев видят в собаке компаньона и пренебрегают ее обучением, то есть созданием четкой системы правил поведения. Периодические крики «Фу!», дерганья за поводок, шлепки по носу — все это для собаки непредсказуемо, поскольку в других случаях то же самое поведение, вроде выпрашивания еды у человеческого стола, никак не наказывалось и даже поощрялось. В результате умная вроде бы собака выбегает на проезжую часть! Делает это она для субъективизации контроля ситуации.
Чтобы увеличить количество счастья у себя и у близких нам людей, достаточно лишь ослабить наше стремление держать руку на пульсе всех семейных событий. Надо отвести каждому члену семьи — от супруга до собаки — то психическое пространство, в котором он никому не подотчетен. Для мужчин таким пространством часто становится гараж (вот почему гаражи настолько дороги). Однако у детей своего гаража нет. Поэтому, конечно, абсолютно недопустимо читать дневник дочери, но нельзя и убирать в комнате подростка, своей волей расставляя все по местам и выкидывая лишнее. Даже напоминать ей или ему об этом бардаке и конюшне лучше только в форме намеков и аллегорий.
Так же стоит относиться к капризам домашних животных. Например, собака автора этих строк всегда радуется предстоящей прогулке. Это проявляется в двигательно-голосовом возбуждении — она носится по квартире, периодически подвывая, когда я начинаю в урочное время одеваться. Перед прогулкой надо поесть, но собака подходит к миске с едой только тогда, когда человек уже стоит в застегнутом пальто с поводком в руке. При этом она начинает баловаться: передними зубами берет одну гранулу и, подержав, бросает ее на пол, и так несколько раз. Потом принимается есть, тщательно пережевывая пищу. Конечно, можно было бы просто выйти из квартиры, и собака, конечно, пошла бы следом. Но у нее ведь так мало возможностей реализовывать собственные решения, то есть полностью контролировать ситуацию! Время прогулки, маршрут, продолжительность — все это выбирает человек. Хозяин постоянно дает указания — туда не ходи, тут не нюхай, это выплюнь немедленно, в дерьме не валяйся! Поэтому я терпеливо жду, пока собака поест со всеми своими фокусами и выкрутасами, — пусть субъективизирует контроль, капризничая у кормушки, а не выбегая на проезжую часть.
В фильме «Основной инстинкт» героиня Шарон Стоун объясняет поведение мальчика, взорвавшего самолет родителей, тем, что он хотел проверить: накажут ли его за это? Очевидно, родители мальчика подавляли всякую возможность его самостоятельного поведения, что и вызвало такую драматическую, но вполне биологически объяснимую реакцию. (Заметим здесь, что воспитание нефрустрированного ребенка, то есть система воспитания с полным отсутствием запретов и наказаний, — это тоже создание неконтролируемой ситуации для ребенка. Выйдя из семьи во внешний мир, он лишится полной свободы и столкнется с неизвестным ему и очень неприятным понятием «нельзя».)
Наши опытность, ум, знание жизни и способность прогнозировать развитие событий будем проявлять в предоставлении своим близким определенной свободы и конечно же неотчуждаемой от свободы ответственности. И безусловно, стоит быть снисходительнее к капризам домашних; ведь их капризы — это бессознательное поведение, причина которого чаще всего в нас самих.
Конечно, читателям «Химии и жизни» было бы интересно узнать о химических изменениях в центральной нервной системе организма, который подвергся действию неконтролируемого стимула. Но это может стать предметом отдельной статьи.
Понятие неконтролируемости
Контролировать ситуацию означает не обязательно влиять на нее, но — понимать закономерности происходящего. Большая часть людей и животных имеет такую потребность. Многие домашние собаки, когда хозяин нечаянно наступает им на хвост или на лапу, начинают извиняться, демонстрируют умиротворяющее поведение: виляют хвостом и стремятся лизнуть хозяина в нос и в губы. Собака знает, что хозяин может причинить боль только в наказание, значит, она сделала что-то нехорошее. Если же в событиях окружающего мира животное не может уловить закономерности, то часто это приводит к расстройствам поведения.
В начале ХХ века в лаборатории И.П.Павлова его сотрудница Н.Р.Шенгер-Крестовникова вырабатывала у собаки сложный условный рефлекс, но задача оказалась неразрешимой. Собака не могла различить две геометрические фигуры, одна из которых сопровождалась появлением пищевого подкрепления, а другая — нет. Три недели бесплодных попыток понять закономерность появления пищи привели животное в состояние, которое мы теперь называем выученной беспомощностью. Собака постоянно пыталась вырваться из экспериментальной установки, все время поскуливала, и, самое примечательное, у нее пропали все ранее выработанные условные рефлексы.
Принципиально важно то, что в этом эксперименте собака не испытывала никакого физического дискомфорта. Ей не причиняли боль, не пугали, она не голодала — животных вечером кормят в виварии независимо от того, насколько успешно они вырабатывали рефлексы. Психику собаки травмировал один лишь психологический фактор — невозможность установить зависимость, согласно которой появляется положительное подкрепление, то есть неконтролируемость ситуации.
Подчеркнем еще раз: когда говорят о неконтролируемом стрессе, на человека или животное необязательно воздействуют стимулы неприятные, болезненные или вредные. Достаточно сделать появление стимула непредсказуемым, а всю ситуацию, следовательно, неконтролируемой. Например, крысу обучают нажимать на педаль, чтобы получить порцию воды. После того как условный рефлекс становится прочным, педаль отключают. Вода периодически появляется в поилке, но это происходит не тогда, когда крыса давит на педаль, а когда нажимает на педаль крыса в соседней клетке, о чем наша экспериментальная крыса, естественно, не знает. Спустя неделю неконтролируемого водопоя у крысы формируется выученная беспомощность.
Еще один принципиальный момент в эффектах неконтролируемости — невовлеченность интеллекта. Состояние выученной беспомощности развивается не потому, что интеллект оказывается бессильным. Животное или человек не предпринимают сознательных интеллектуальных усилий для поиска закономерностей окружающей среды. Попытки делаются на бессознательном уровне. Об этом свидетельствуют результаты экспериментов, в которых состояние выученной беспомощности после неконтролируемого воздействия было сформировано у тараканов и улиток. У беспозвоночных животных нет мозга, у них есть только нервные узлы — ганглии, которые заметно уступают головному мозгу млекопитающих по сложности. Соответственно и формы поведения у беспозвоночных гораздо проще, чем у млекопитающих. Но условные рефлексы насекомые и моллюски вырабатывают достаточно легко. А условный рефлекс формируется на основании связи (которую И.П.Павлов называл «временнóй») между различными изменениями в окружающей среде. Если же такая связь неочевидна, то ситуация становится неконтролируемой, в результате формируется выученная беспомощность.
Состояние выученной беспомощности используют как модель депрессии человека, но сейчас оно интересует нас как инструмент управления поведением, поскольку в этом состоянии подавляются волевые свойства личности.
Неконтролируемость как метод манипуляции
Человек с выученной беспомощностью лишается воли. У него пропадают желание разбираться в закономерностях сложного окружающего мира и желание что-либо предпринимать, каким-то образом влиять на этот мир. Экспериментальные животные, которых подвергали неконтролируемым воздействиям, утрачивают способность к выбору. Даже сильные воздействия, такие, как раздражение электрическим током, не вызывают у них естественной для всего живого реакции избегания. Люди с выученной беспомощностью не совершают никаких самостоятельных действий, а лишь ожидают прямого указания — что, как и когда нужно сделать.
Поэтому иногда неконтролируемость ситуации создается намеренно. Например, в армиях некоторых стран главным считается не обучить новобранца военной специальности, а заставить выполнять приказы не рассуждая. Для этого необходимо подавить волю человека, его стремление к самостоятельности, склонность к рассуждениям, присущие в той или иной мере каждому человеку. Иррационализм армейской службы создается и поддерживается искусственно.
Значительно чаще неконтролируемые ситуации люди создают своим близким совершенно бессознательно, искренне полагая, что они желают им только добра.
Муж не ограничивает неработающую жену в расходах, но требует отчета с точностью до рубля. Ведь учет и контроль — основа экономической стабильности. Не говоря о том, что именно он зарабатывает деньги, поэтому имеет право знать, куда они уходят. При этом женщина чувствует себя несчастной.
Женщина дарит зятю стринги (реальный случай!). Ведь она сексуально опытнее своей дочери и лучше знает, какие части фигуры данного мужчины стоит подчеркнуть. Но молодая жена недовольна таким поступком своей матери.
Левше запрещают пользоваться левой рукой. Ребенок не в состоянии понять, почему нельзя держать ложку или карандаш так, как ему удобно, почему его наказывают за это. Левша, которого переучивают на правшу, постоянно находится в неконтролируемой ситуации.
Родители правшей тоже запрещают своим детям многое. Ведь они лучше знают, что опасно и вредно для ребенка, а что полезно. Но дети очень часто протестуют против родительского контроля и системы запретов. Протесты подрастающего поколения, а порой и взрослых членов семьи проявляются в форме странных поступков, иногда и таких, которые называют неадекватными. На самом же деле это, возможно, социально неприемлемые, но адекватные реакции — попытки создать субъективно контролируемую ситуацию. Большинство людей старается достичь хотя бы иллюзии контроля над ситуацией, на которую невозможно повлиять. Это помогает избежать состояния выученной беспомощности.
Смещенная активность как защита от неконтролируемости
В фашистской Германии были созданы «трудовые лагеря», в которые помещали людей, неугодных режиму, в первую очередь — недовольных. Основным методом воздействия на психику была неконтролируемость ситуации. Правила внутреннего распорядка постоянно менялись, о чем заключенным не сообщали. Разрешенное вчера сегодня оказывалось запрещенным и наказуемым. Кроме того, широко использовалась иррационализация, например, заключенным приказывали выкопать яму — срочно, быстро, еще быстрее! Как только яма была готова, следовала команда закопать ее. И опять — быстрее, время «на отлично» кончается, кто не справится, будет наказан!
Через несколько месяцев такого режима заключенный утрачивал волевые импульсы. Ему не приходило в голову попытаться понять происходящее, не говоря о критическом осмыслении. На свободу выходил человек, который верит всему, что слышит по радио, и беспрекословно выполняет указания руководящих товарищей.
В такой лагерь попал и психолог Бруно Беттельхайм. Как профессионал, он очень быстро понял методологию воспитания. Он назвал этот метод «формированием детского мироощущения». Действительно, маленькому ребенку непонятен окружающий мир. Часто он не только не в состоянии постичь закономерности окружающей его среды, но даже не может сформулировать вопросы. Почему на стул забираться — можно, на стол — лучше не надо, а на подоконник — нельзя ни в коем случае, никогда? Непостижимо. Для маленького ребенка единственная возможная стратегия поведения — абсолютное подчинение взрослым. Ничего нельзя делать, предварительно не испросив разрешения. Любая инициатива наказуема.
Будучи психологом, Беттельхайм разработал и метод противодействия формированию выученной беспомощности — делать все, что прямо не запрещено. Не запрещено чистить зубы — чисти. Причем не потому, что ты заботишься о гигиене полости рта, а потому что это — твое решение. Не запрещено делать физические упражнения — делай зарядку. Опять же не потому, что заботишься о тонусе мышечной, сердечно-сосудистой и прочих систем организма, а потому, что ты не выполняешь приказ, а реализуешь свое решение.
Беттельхайм пробыл в лагере девять месяцев. Выйдя на свободу, уехал в США и там написал большую работу о своем опыте пребывания в неконтролируемой ситуации. По Беттельхайму, основа метода предупреждения выученной беспомощности — использование смещенной активности. Попытки прямого воздействия на неконтролируемую ситуацию обречены на неудачу. Ни избежать, ни избавиться от всех неприятных воздействий невозможно. Нельзя ни приспособиться к ним, ни предсказать появление стимулов. Терпеть и ждать, «когда это все закончится», тоже бесполезно, поскольку окончание воздействия также непредсказуемо. Но можно сделать ситуацию контролируемой субъективно. Для этого достаточно проявлять активность, даже не направленную на избавление от действующих стимулов, — а просто активность.
Смещенная активность по определению лишена биологического смысла, поскольку не направлена на удовлетворение актуальной потребности. Она возникает в тех случаях, когда у животного или человека по разным причинам нет готовой программы действия. В таких ситуациях используется двигательный стереотип другой мотивации. Но в ситуации длительной неконтролируемости у смещенной активности несколько неожиданно появляется биологический смысл — спасение от выученной беспомощности.
В простейшей модели неконтролируемой ситуации — иммобилизации на спине — половине крыс давали в зубы деревянную палочку. У этих животных физиологические и поведенческие изменения по окончании иммобилизации были значительно меньше, чем у тех, кто был лишен возможности грызть палочку. Уместно вспомнить, что во время наказания кнутом истязаемому человеку вкладывали в рот кожаный ремень, чтобы он не отгрыз себе язык.
Выученная беспомощность развивается у крыс, получающих удары током, которых они не могли ни избежать, ни предсказать, сидя в маленькой клетке. Но если такое же болевое раздражение получали крысы в большой клетке, где они могли бегать, то выученная беспомощность не формировалась. Активное движение хотя и не уменьшало боли, но предотвращало развитие пагубных для организма изменений в психике. Хотя ситуация была объективно неконтролируемой — удары электрическим током достигали цели, возникала иллюзия контроля, животное что-то делало.
Аналогичным образом выученная беспомощность не формируется у крыс, которых помещали в клетку с «электрическим» полом попарно. Получая удары током, эти крысы дрались друг с другом. Несмотря на многочисленные раны, по окончании болевого воздействия поведение этих животных было значительно ближе к норме, чем у крыс, которые страдали поодиночке.
Этот механизм психологической защиты — субъективизация контроля ситуации — проявляется в постоянных драках заключенных, какими бы гуманными ни были условия содержания в исправительно-трудовых учреждениях. Заметим, что избежать выученной беспомощности в ситуации тотальных запретов и непредсказуемых наказаний можно и не затевая драк. Как уже говорилось, можно делать все, что прямо не запрещено, причем не только чистить зубы и заниматься физкультурой. В час пик в метро (это, конечно, не тюрьма, но все же ограничение свободы) сочиняйте стихи, решайте в уме математические задачи, переводите анекдоты на английский язык. Все это будет проявлением вашей воли, и в этой сфере именно вы и только вы будете полностью контролировать ситуацию.
К сожалению, прав был Ф.М.Достоевский, когда заметил, что всякий интеллект — болезнь. В отличие от животных, многие люди в неконтролируемой ситуации вместо проявления смещенной активности стремятся восстановить контроль. Если эти попытки оказываются бесплодными, они только ускоряют формирование выученной беспомощности.
Однако у многих людей мы наблюдаем адекватный защитный механизм — смещенную активность, которая окружающим часто кажется капризами.
Капризы как форма смещенной активности
Поступки детей часто кажутся взрослым дикими и непонятными. А между тем это лишь попытка показать себе, что именно он (она) управляет ситуацией. Ребенок и сам был бы рад хорошо учиться, заниматься спортом, дружить с хорошими мальчиками и девочками, а с плохими не дружить. Ему хотелось бы не пить и не курить. Но он знает, что все эти формы поведения будут реализацией родительских желаний, то есть он пойдет на поводу у взрослых. А вот лазить по крышам, перебегать железнодорожные пути перед близко идущим поездом, ездить на велосипеде по автомагистрали — все это родители категорически не одобрили бы. Следовательно, подобное поведение будет его решением, его поступком, которым он доказывает себе, что управляет своим поведением, то есть контролирует ситуацию.
Родителям очень трудно удержаться от того, чтобы контролировать поведение детей. Взрослый человек и лучше предвидит отдаленные последствия поступков, и сделает все быстрее, лучше и надежнее. Куда проще надеть на ребенка все необходимое для прогулки, чем ждать, когда он сам оденется. Но, выйдя из дома, ребенок тут же снимет рукавички — назло маме пусть руки мерзнут! Собираясь на дачу, мама отбирает у ребенка огромного медведя — ну куда его, и так все руки заняты, — но этим она подчеркивает, что решения принимает только она, а от ребенка ничего не зависит. В результате всю долгую поездку в метро и в электричке ребенок капризничает. Этим он субъективизирует контролируемость окружающего мира.
В одном из современных фильмов есть такой эпизод. Дети просят мать завести котенка, она отказывает, тогда дети покупают котенка на деньги, сэкономленные на завтраках. Мать тут же отдает котенка в хорошие руки, и больше разговоров о кошке не возникает. А в финальной сцене дети приходят домой, и их встречает улыбающаяся мать с котенком у ног. По мысли авторов фильма, это, вероятно, бодрый финал, мажорный аккорд. В действительности все это очень печально. Женщина лишний раз показала детям, что от их поведения, от их желаний ничего не зависит, ситуацию контролирует мать и только мать.
В одном из романов Марининой девушка, работавшая секретаршей у своего отца, передавала его секреты конкурентам и более того — добилась в конце концов, чтобы папу посадили в тюрьму. Дело в том, что отец продолжал контролировать поведение совершеннолетней девушки так, как будто она оставалась ребенком. В частности, выписывая ей зарплату, обычную для секретарши бизнесмена, на руки выдавал ту же мизерную сумму, что и в школьные годы. Примечательно, что девушка не осознавала мотивов своего поведения, тех потребностей, которые стремилась удовлетворить. Сама она считала, что страдает из-за невозможности покупать дорогие вещи, посещать дорогие клубы и тратить деньги другими способами. Но, став наследницей и получив финансовую независимость, она быстро убедилась, что затратная светская жизнь ей неинтересна. Оказалось, что вся драма разыгралась из-за родительского гиперконтроля.
В основе поступков взрослых людей тоже порой лежит стремление к субъективизации контроля ситуации. Человек, поведение которого полностью контролируется супругом, может вдруг завести любовника (любовницу). И в основе этого поведения будет не влюбленность, не поиски новизны, а лишь бессознательное желание совершить нечто явно не одобряемое контролером. В рассказе Мопассана «Бомбар» муж, регулярно получавший от богатой жены незначительную сумму на самочинные мужские расходы, почти всю ее передавал служанке — «здоровенной бабе, красной и коренастой», — за что та позволяла совокупляться с собой на черной лестнице. И на следующий день, сидя с удочкой в тростниках, муж кричал от радости: «Надули хозяйку!»
Если человек вынужден заниматься работой, которая не приносит ему внутреннего удовлетворения, он всегда имеет какое-то хобби, зачастую весьма дорогостоящее. На потраченные деньги человек мог бы съездить в далекие страны, сделать в квартире евроремонт или даже обеспечить себе безбедную старость. Но неинтересная работа — ситуация неконтролируемого стресса, и человек бессознательно спасается от депрессии, предаваясь любимому занятию. Хотя, с точки зрения окружающих, это совершенно пустое дело, вздорная трата денег, каприз!
Тот же механизм — субъективизация контроля поведения — работает иногда и у домашних питомцев. Большинство хозяев видят в собаке компаньона и пренебрегают ее обучением, то есть созданием четкой системы правил поведения. Периодические крики «Фу!», дерганья за поводок, шлепки по носу — все это для собаки непредсказуемо, поскольку в других случаях то же самое поведение, вроде выпрашивания еды у человеческого стола, никак не наказывалось и даже поощрялось. В результате умная вроде бы собака выбегает на проезжую часть! Делает это она для субъективизации контроля ситуации.
Чтобы увеличить количество счастья у себя и у близких нам людей, достаточно лишь ослабить наше стремление держать руку на пульсе всех семейных событий. Надо отвести каждому члену семьи — от супруга до собаки — то психическое пространство, в котором он никому не подотчетен. Для мужчин таким пространством часто становится гараж (вот почему гаражи настолько дороги). Однако у детей своего гаража нет. Поэтому, конечно, абсолютно недопустимо читать дневник дочери, но нельзя и убирать в комнате подростка, своей волей расставляя все по местам и выкидывая лишнее. Даже напоминать ей или ему об этом бардаке и конюшне лучше только в форме намеков и аллегорий.
Так же стоит относиться к капризам домашних животных. Например, собака автора этих строк всегда радуется предстоящей прогулке. Это проявляется в двигательно-голосовом возбуждении — она носится по квартире, периодически подвывая, когда я начинаю в урочное время одеваться. Перед прогулкой надо поесть, но собака подходит к миске с едой только тогда, когда человек уже стоит в застегнутом пальто с поводком в руке. При этом она начинает баловаться: передними зубами берет одну гранулу и, подержав, бросает ее на пол, и так несколько раз. Потом принимается есть, тщательно пережевывая пищу. Конечно, можно было бы просто выйти из квартиры, и собака, конечно, пошла бы следом. Но у нее ведь так мало возможностей реализовывать собственные решения, то есть полностью контролировать ситуацию! Время прогулки, маршрут, продолжительность — все это выбирает человек. Хозяин постоянно дает указания — туда не ходи, тут не нюхай, это выплюнь немедленно, в дерьме не валяйся! Поэтому я терпеливо жду, пока собака поест со всеми своими фокусами и выкрутасами, — пусть субъективизирует контроль, капризничая у кормушки, а не выбегая на проезжую часть.
В фильме «Основной инстинкт» героиня Шарон Стоун объясняет поведение мальчика, взорвавшего самолет родителей, тем, что он хотел проверить: накажут ли его за это? Очевидно, родители мальчика подавляли всякую возможность его самостоятельного поведения, что и вызвало такую драматическую, но вполне биологически объяснимую реакцию. (Заметим здесь, что воспитание нефрустрированного ребенка, то есть система воспитания с полным отсутствием запретов и наказаний, — это тоже создание неконтролируемой ситуации для ребенка. Выйдя из семьи во внешний мир, он лишится полной свободы и столкнется с неизвестным ему и очень неприятным понятием «нельзя».)
Наши опытность, ум, знание жизни и способность прогнозировать развитие событий будем проявлять в предоставлении своим близким определенной свободы и конечно же неотчуждаемой от свободы ответственности. И безусловно, стоит быть снисходительнее к капризам домашних; ведь их капризы — это бессознательное поведение, причина которого чаще всего в нас самих.
Конечно, читателям «Химии и жизни» было бы интересно узнать о химических изменениях в центральной нервной системе организма, который подвергся действию неконтролируемого стимула. Но это может стать предметом отдельной статьи.
Пойду посплю, так от меня вреда меньше.
Хотя мое намерение перенести старые и новые тексты о психологии на другую площадку в силе и я готовлю необходимый материал, в жж у меня остался кое-какой долг по отношению к феминизму.
За мной тянется длинный и мистифицированный шлейф старых дискуссий о гендерном неравенстве, в которых я принимала участие.
К сожалению, вскрывая механизмы неравенства, я, как и многие мои предшественницы, куда более авторитетные и компетентные, чем я, столкнулась с проблемой, которую можно описать словами из известной песни о классовом неравенстве «пусть ярость благородная вскипает как волна, идет война народная, священная война». Эта ситуация помогла мне увидеть и рассмотреть во всех красках феномен, о котором раньше я имела достаточно смутное представление. А именно. Есть прямая связь между констатацией личностью страданий и ее экстернальным локусом контроля (когда во всем обвиняется внешний враг). Люди с внутренним локусом контроля субъективно страдают намного меньше, не думают о страданиях, не фиксируют внимание на них, а люди, у которых локус контроля внешний, всегда готовы откликнуться на описания любой несправедливости и найти ее в своей жизни в увеличенном масштабе, а потом обсуждать и обсуждать, наращивая обиду.
Чем более экстернален локус контроля, тем больше притеснений и лишений фиксирует в своей жизни человек. В силу этой корреляции многие читательницы, получившие в моих первых постах о неравенстве «глоток свежего воздуха», были обрадованы подкреплению того, что и сами они всегда чувствовали: «во всем виноваты враги»! Я попала в ловушку того принципа, который сама же и описывала: для независимого поведения нужны ресурсы, анализ своего подчиненного положения без ресурсов (внутренних и внешних) вызывает гнев, который не помогает обрести ресурсы, а провоцирует войну, в которой человек без ресурсов теряет и то малое, что имел.
Правильная стратегия при осознании неравенства – анализ собственной зависимости и взятие на себя ответственности за создание личных ресурсов. Злость не только не помогает этому процессу, но и мешает.
При равной зависимости-независимости в паре неравенства не возникает. Никакой всесильный гендер не способен создать подчиненное положение женщины в паре, пока ее внутренних и внешних ресурсов хватает на самообеспечение и самоуважение. Это технически невозможно. Гендер всего лишь препятствует накоплению ресурсов женщиной, но происходит это путем перекладывания на мужчину ответственности за ресурсы. Именно с помощью перераспределения ответственности в паре действует гендер, но не каким-то насильственным путем (в современном мире механизмы другие, намного более лояльные), а через систему личных выборов, которые женщина может осознавать и не осознавать, но совершает. Именно ориентацией женщин в системе личных выборов, помощью в их осознании, и должен заниматься феминизм, на мой взгляд. Однако, многие феминистки фиксируются на «вскрытии неравенства» настолько, что вскрывают его и вскрывают, кто маниакально, кто компульсивно, не сторонясь преувеличений, обобщений, искажений, в результате чего вместо ориентации в системе личных выборов получается культ ненависти и создание образа всесильного и непобедимого врага Му или Гэ.
Чем же так страшна ненависть женщин к мужчинам (или персонифицированному мужскому гендеру)? Попробую описать простыми словами.
Во-первых, ненависть всегда вызывает в ответ ненависть, особенно когда речь идет о ненависти к более сильному (политически, экономически, физически, не важно, мужчины пока во всех отношениях, в среднем, гораздо сильнее). Мизандрия увеличивает мизогинию, и снисходительно-нежное отношение большинства мужчин к женщинам как к группе сменяется презрением и отвращением. Это происходит локально, если мизандрия локальна, и широко, если мизандрия начинает расширяться. Необходимо очень четко представлять себе все процессы, которые запускаются, особенно, когда речь идет не о личном мнении, а о выступлении группой. Смелые воинки (или борчихи, не знаю какой феминитив лучше) независимо от того, сколько в них реальной смелости, а сколько виртуального блефа, оскорбляют мужчин, не выбирая выражений, обобщая их по случаю любого прецендента, а ответная агрессия будет направлена не на них или не только на них, то есть пострадают другие женщины. В результате подобных провокаций, имеющих мало (или ноль) конструктива и много агрессии, антифеминисткие мужские движения набирают оборот, а воинственные девы получают новые и новые подтверждения мизогинии. Ненависть, таким образом, ширится и возрастает по спирали, подпитывая с обеих сторон каждый виток. Если не сваливать всю внешнюю политическую ситуацию на богапутена, интернет нам дает сейчас возможность наблюдать, как из взаимных оскорблений понемногу, но динамично, формируется вражда. Это саморазвивающаяся матрица, особенно в питательной среде интернета.
Во-вторых, ненависть – чрезвычайно разрушительное чувство, и единственная форма защиты от ненависти – полная сепарация. Чтобы снизить кортизол (упрощаю до одного гормона, хотя механизм стресса гораздо сложней), очень быстро убивающий все системы организма, необходимо избавиться от врага: уничтожить его или убежать. Когда речь идет о ненависти к одному единственному человеку, который наносит боль, избавиться от этого разрушительного чувства можно с помощью бегства. Необходимо физически отдалиться и прекратить любые травмирующие контакты. Вот почему ненависть к группе – крайне деструктивное чувство. Полностью сепарироваться от половины человечества нельзя, социальные связи с мужчинами очень тесны и взаимны. Ненависть к тем, кто настолько близок, приводит к ощущению нарастающей духоты, тошноты и тесноты, и это ощущение психопатогенно. Поэтому все, кто ненавидят мужчин как класс, обязательно начинают вынашивать мысли об их уничтожении, как единственном способе освобождения. Они проговариваются там и сям, «шутят» на эту тему и обвиняют других в паранойе, но избавиться от мыслей об уничтожении того, кого ты ненавидишь, но от кого не можешь полностью и абсолютно отделиться, нельзя. Особенно тяжелы такие состояния при амбивалентности, то есть когда ненавистная группа включает некоторых любимых и близких людей. Здесь психика подвергается атакам с разных сторон. Я настойчиво призываю всех тех, кто считает ненависть «прозрением» и «продуктивным избавлением от психзащит» задуматься всерьез, что они делают с собой. Ненависть разрушает ненавистников, и это, возможно, самый конструктивный из механизмов природы, заставляющий выживать только тех, кто готов жить с миром в гармонии.
В-третьих, то, что, на мой взгляд, является основным и делает первые два аргумента несущественными. Дегуманизировать кого бы то ни было, «в ответку» ли, «в обратку», в «ачоони» и «онсамначал» – это лишать всякого смысла борьбу за «права». Борьба за права имеет смысл только постольку, поскольку мы признаем право каждого человека на то, что называется бытие (существование + реализация). Если человек (тем более группа) увеличивает свое бытие за счет других, мы можем бороться против этого «счета», но не против его права на бытие. Из какой бы мести, злости и обиды, и других детских чувств, ни возникало это желание, как бы ни было оно простительно и понятно, общим принципом оно признано быть не может, иначе лишается смысла и борьба. Борьба против насилия, таким образом, должна быть максимально ненасильственной, иначе возникает оксюморон: змей пожирающий себя. Любое насилие, признанное законным, укрепляет сам принцип насилия. И все аргументы о «неэффективности» такой борьбы с «врагами» необходимо отметать. В правовом социальном пространстве не может быть никаких «врагов», тем более групповых, в нем царствует принцип гуманизма, этот принцип должен быть дороже любых видимых выгод, за ним - будущее человечества, без него - крах. Бороться необходимо не с людьми, а с искажениями в системе общества (очень важно понять, что искажения эти поддерживаются со сторон обоих гендеров, а не просто навязываются мужским, нет, оба гендера искажены, и социальное поведение одного гендера поддерживается и закрепляется другим, иногда не оставляя шанса на другое поведение, поэтому борьба должна быть системной и в высшей степени культурной).
В русском феминизме, на мой взгляд, назрела необходимость движения «феминизм без фашизма», о котором говорила Наоми Вульф. Однако, многие из феминисток, которые восхищаются «Мифом о красоте», игнорируют слова Наоми об опасности дегуманизации феминистками мужчин и идеализации женских сообществ. Дискредитация феминизма фашистскими идеями разрушительна для этого движения. Особенной проблемой мне видится то, что любая попытка антифашистского феминизма выдается его противниками за саботирование феминизма как такового. Однако, даже бытовые примеры доказывают обратное.
Если мы рассмотрим гипотетическую пару, где жена более зависима и подчинена, мы можем увидеть, какие способы борьбы с зависимостью женщин эффективны, а какие разрушительны. Будут ли эффективны оскорбления женой этого мужа? В лучшем случае он уйдет, в худшем устроит изнурительный для нее скандал или применит вредные для нее санкции. Если цель – избавиться от мужа, оскорбления ничего не добавляют к его уходу, но могут породить в женщине сомнения и чувство вины. Если цель – поправить положение, оскорбления тем более не эффективны. Может быть они и подействуют ситуативно, но только, если зависимость мужа и без того велика, а значит спокойный разговор подействовал бы лучше. Если же зависимость мужа минимальна, скандал не только не эффективен, но и убыточен для женщины. Эффективен в данном случае анализ собственной зависимости и ее снижение любыми конструктивными способами (искать и создавать внешние опоры, в основном). О ком бы речь ни шла, о страшном насильнике-садисте или о неплохом парне, о любящем человеке или совершенно равнодушном, о том, от кого следует бежать или о том, с кем хочется жить, ярость никак не поможет выигрышу женщины. С садистом это опасно, с неплохим парнем не нужно, любящий человек дистанцируется, равнодушный испытает раздражение. Гнев не конструктивен в конфликте, он делает шансы на его разрешение меньше, а не больше. Откуда возникло мнение, что для снижения своей зависимости женщины должны возненавидеть мужчин? Видимо, это мнение опирается на иллюзию, что зависимость базируется исключительно на доверии, а разрушить доверие может лишь ненависть, хотя куда спокойнее мы доверяем тем, от кого объективно не зависим, а зависимость порождает недоверие сама собой из-за возрастания ставок потери. Вирус ненависти захватил целое движение (ничего удивительного, если вспомнить феномен, который я описала в начале), мешая рассуждать о возможности сотрудничества, там, где оно еще возможно, любви, там, где она еще есть, сепарации, там, где она необходима, самозащиты, там, где без нее уже не обойтись. Ненависть вредит абсолютно во всех случаях, поскольку единственное ее назначение в социуме – создание образа врага. А врага можно только уничтожать, физически, других способов контакта с врагом нет.
В комментариях я призываю к вежливому обсуждению. Убедившись не раз, насколько питательно для любого негатива жж-пространство, я не хочу поддерживать никакую форму агрессии, даже по отношению к моим идейным противникам. Как бы меня ни отвращали некоторые идеи, я не хочу дегуманизировать ни одного человека, и верю в то, что даже самая антигуманная идеология имеет в своей основе стремление к справедливости, так, как ее понимает данный человек. Поэтому враждовать можно с идеологией, но не с ее носителями, которые часто сами жертвы токсичных идей.
За мной тянется длинный и мистифицированный шлейф старых дискуссий о гендерном неравенстве, в которых я принимала участие.
К сожалению, вскрывая механизмы неравенства, я, как и многие мои предшественницы, куда более авторитетные и компетентные, чем я, столкнулась с проблемой, которую можно описать словами из известной песни о классовом неравенстве «пусть ярость благородная вскипает как волна, идет война народная, священная война». Эта ситуация помогла мне увидеть и рассмотреть во всех красках феномен, о котором раньше я имела достаточно смутное представление. А именно. Есть прямая связь между констатацией личностью страданий и ее экстернальным локусом контроля (когда во всем обвиняется внешний враг). Люди с внутренним локусом контроля субъективно страдают намного меньше, не думают о страданиях, не фиксируют внимание на них, а люди, у которых локус контроля внешний, всегда готовы откликнуться на описания любой несправедливости и найти ее в своей жизни в увеличенном масштабе, а потом обсуждать и обсуждать, наращивая обиду.
Чем более экстернален локус контроля, тем больше притеснений и лишений фиксирует в своей жизни человек. В силу этой корреляции многие читательницы, получившие в моих первых постах о неравенстве «глоток свежего воздуха», были обрадованы подкреплению того, что и сами они всегда чувствовали: «во всем виноваты враги»! Я попала в ловушку того принципа, который сама же и описывала: для независимого поведения нужны ресурсы, анализ своего подчиненного положения без ресурсов (внутренних и внешних) вызывает гнев, который не помогает обрести ресурсы, а провоцирует войну, в которой человек без ресурсов теряет и то малое, что имел.
Правильная стратегия при осознании неравенства – анализ собственной зависимости и взятие на себя ответственности за создание личных ресурсов. Злость не только не помогает этому процессу, но и мешает.
При равной зависимости-независимости в паре неравенства не возникает. Никакой всесильный гендер не способен создать подчиненное положение женщины в паре, пока ее внутренних и внешних ресурсов хватает на самообеспечение и самоуважение. Это технически невозможно. Гендер всего лишь препятствует накоплению ресурсов женщиной, но происходит это путем перекладывания на мужчину ответственности за ресурсы. Именно с помощью перераспределения ответственности в паре действует гендер, но не каким-то насильственным путем (в современном мире механизмы другие, намного более лояльные), а через систему личных выборов, которые женщина может осознавать и не осознавать, но совершает. Именно ориентацией женщин в системе личных выборов, помощью в их осознании, и должен заниматься феминизм, на мой взгляд. Однако, многие феминистки фиксируются на «вскрытии неравенства» настолько, что вскрывают его и вскрывают, кто маниакально, кто компульсивно, не сторонясь преувеличений, обобщений, искажений, в результате чего вместо ориентации в системе личных выборов получается культ ненависти и создание образа всесильного и непобедимого врага Му или Гэ.
Чем же так страшна ненависть женщин к мужчинам (или персонифицированному мужскому гендеру)? Попробую описать простыми словами.
Во-первых, ненависть всегда вызывает в ответ ненависть, особенно когда речь идет о ненависти к более сильному (политически, экономически, физически, не важно, мужчины пока во всех отношениях, в среднем, гораздо сильнее). Мизандрия увеличивает мизогинию, и снисходительно-нежное отношение большинства мужчин к женщинам как к группе сменяется презрением и отвращением. Это происходит локально, если мизандрия локальна, и широко, если мизандрия начинает расширяться. Необходимо очень четко представлять себе все процессы, которые запускаются, особенно, когда речь идет не о личном мнении, а о выступлении группой. Смелые воинки (или борчихи, не знаю какой феминитив лучше) независимо от того, сколько в них реальной смелости, а сколько виртуального блефа, оскорбляют мужчин, не выбирая выражений, обобщая их по случаю любого прецендента, а ответная агрессия будет направлена не на них или не только на них, то есть пострадают другие женщины. В результате подобных провокаций, имеющих мало (или ноль) конструктива и много агрессии, антифеминисткие мужские движения набирают оборот, а воинственные девы получают новые и новые подтверждения мизогинии. Ненависть, таким образом, ширится и возрастает по спирали, подпитывая с обеих сторон каждый виток. Если не сваливать всю внешнюю политическую ситуацию на богапутена, интернет нам дает сейчас возможность наблюдать, как из взаимных оскорблений понемногу, но динамично, формируется вражда. Это саморазвивающаяся матрица, особенно в питательной среде интернета.
Во-вторых, ненависть – чрезвычайно разрушительное чувство, и единственная форма защиты от ненависти – полная сепарация. Чтобы снизить кортизол (упрощаю до одного гормона, хотя механизм стресса гораздо сложней), очень быстро убивающий все системы организма, необходимо избавиться от врага: уничтожить его или убежать. Когда речь идет о ненависти к одному единственному человеку, который наносит боль, избавиться от этого разрушительного чувства можно с помощью бегства. Необходимо физически отдалиться и прекратить любые травмирующие контакты. Вот почему ненависть к группе – крайне деструктивное чувство. Полностью сепарироваться от половины человечества нельзя, социальные связи с мужчинами очень тесны и взаимны. Ненависть к тем, кто настолько близок, приводит к ощущению нарастающей духоты, тошноты и тесноты, и это ощущение психопатогенно. Поэтому все, кто ненавидят мужчин как класс, обязательно начинают вынашивать мысли об их уничтожении, как единственном способе освобождения. Они проговариваются там и сям, «шутят» на эту тему и обвиняют других в паранойе, но избавиться от мыслей об уничтожении того, кого ты ненавидишь, но от кого не можешь полностью и абсолютно отделиться, нельзя. Особенно тяжелы такие состояния при амбивалентности, то есть когда ненавистная группа включает некоторых любимых и близких людей. Здесь психика подвергается атакам с разных сторон. Я настойчиво призываю всех тех, кто считает ненависть «прозрением» и «продуктивным избавлением от психзащит» задуматься всерьез, что они делают с собой. Ненависть разрушает ненавистников, и это, возможно, самый конструктивный из механизмов природы, заставляющий выживать только тех, кто готов жить с миром в гармонии.
В-третьих, то, что, на мой взгляд, является основным и делает первые два аргумента несущественными. Дегуманизировать кого бы то ни было, «в ответку» ли, «в обратку», в «ачоони» и «онсамначал» – это лишать всякого смысла борьбу за «права». Борьба за права имеет смысл только постольку, поскольку мы признаем право каждого человека на то, что называется бытие (существование + реализация). Если человек (тем более группа) увеличивает свое бытие за счет других, мы можем бороться против этого «счета», но не против его права на бытие. Из какой бы мести, злости и обиды, и других детских чувств, ни возникало это желание, как бы ни было оно простительно и понятно, общим принципом оно признано быть не может, иначе лишается смысла и борьба. Борьба против насилия, таким образом, должна быть максимально ненасильственной, иначе возникает оксюморон: змей пожирающий себя. Любое насилие, признанное законным, укрепляет сам принцип насилия. И все аргументы о «неэффективности» такой борьбы с «врагами» необходимо отметать. В правовом социальном пространстве не может быть никаких «врагов», тем более групповых, в нем царствует принцип гуманизма, этот принцип должен быть дороже любых видимых выгод, за ним - будущее человечества, без него - крах. Бороться необходимо не с людьми, а с искажениями в системе общества (очень важно понять, что искажения эти поддерживаются со сторон обоих гендеров, а не просто навязываются мужским, нет, оба гендера искажены, и социальное поведение одного гендера поддерживается и закрепляется другим, иногда не оставляя шанса на другое поведение, поэтому борьба должна быть системной и в высшей степени культурной).
В русском феминизме, на мой взгляд, назрела необходимость движения «феминизм без фашизма», о котором говорила Наоми Вульф. Однако, многие из феминисток, которые восхищаются «Мифом о красоте», игнорируют слова Наоми об опасности дегуманизации феминистками мужчин и идеализации женских сообществ. Дискредитация феминизма фашистскими идеями разрушительна для этого движения. Особенной проблемой мне видится то, что любая попытка антифашистского феминизма выдается его противниками за саботирование феминизма как такового. Однако, даже бытовые примеры доказывают обратное.
Если мы рассмотрим гипотетическую пару, где жена более зависима и подчинена, мы можем увидеть, какие способы борьбы с зависимостью женщин эффективны, а какие разрушительны. Будут ли эффективны оскорбления женой этого мужа? В лучшем случае он уйдет, в худшем устроит изнурительный для нее скандал или применит вредные для нее санкции. Если цель – избавиться от мужа, оскорбления ничего не добавляют к его уходу, но могут породить в женщине сомнения и чувство вины. Если цель – поправить положение, оскорбления тем более не эффективны. Может быть они и подействуют ситуативно, но только, если зависимость мужа и без того велика, а значит спокойный разговор подействовал бы лучше. Если же зависимость мужа минимальна, скандал не только не эффективен, но и убыточен для женщины. Эффективен в данном случае анализ собственной зависимости и ее снижение любыми конструктивными способами (искать и создавать внешние опоры, в основном). О ком бы речь ни шла, о страшном насильнике-садисте или о неплохом парне, о любящем человеке или совершенно равнодушном, о том, от кого следует бежать или о том, с кем хочется жить, ярость никак не поможет выигрышу женщины. С садистом это опасно, с неплохим парнем не нужно, любящий человек дистанцируется, равнодушный испытает раздражение. Гнев не конструктивен в конфликте, он делает шансы на его разрешение меньше, а не больше. Откуда возникло мнение, что для снижения своей зависимости женщины должны возненавидеть мужчин? Видимо, это мнение опирается на иллюзию, что зависимость базируется исключительно на доверии, а разрушить доверие может лишь ненависть, хотя куда спокойнее мы доверяем тем, от кого объективно не зависим, а зависимость порождает недоверие сама собой из-за возрастания ставок потери. Вирус ненависти захватил целое движение (ничего удивительного, если вспомнить феномен, который я описала в начале), мешая рассуждать о возможности сотрудничества, там, где оно еще возможно, любви, там, где она еще есть, сепарации, там, где она необходима, самозащиты, там, где без нее уже не обойтись. Ненависть вредит абсолютно во всех случаях, поскольку единственное ее назначение в социуме – создание образа врага. А врага можно только уничтожать, физически, других способов контакта с врагом нет.
В комментариях я призываю к вежливому обсуждению. Убедившись не раз, насколько питательно для любого негатива жж-пространство, я не хочу поддерживать никакую форму агрессии, даже по отношению к моим идейным противникам. Как бы меня ни отвращали некоторые идеи, я не хочу дегуманизировать ни одного человека, и верю в то, что даже самая антигуманная идеология имеет в своей основе стремление к справедливости, так, как ее понимает данный человек. Поэтому враждовать можно с идеологией, но не с ее носителями, которые часто сами жертвы токсичных идей.
Пойду посплю, так от меня вреда меньше.
Хочу публично ответить на многочисленные вопросы в личку.
«Почему такие страшные склоки и постоянные расколы в сообществах радикальных феминисток?»
- Потому что заявленная цель таких сообществ – война.
«Но война ведь не с женщинами, а с мужчинами! Почему же грызутся между собой?»
- Потому что на войне не может быть уважения к альтернативным точкам зрения. На войне есть враг и любые дискуссии на темы «насколько они нам враги?» «все ли?» «нельзя ли решить вопрос мирно?» «можно ли в каких-то вопросах сотрудничать с врагом и с теми, кто считает врагов друзьями?» расцениваются как предательство. «Друг моего врага – мой враг» - этот принцип работает всегда, когда враг считается настоящим врагом, то есть смертельно опасным зверем, недочеловеком («мразью») . Любой, кто подвергает сомнению эту мысль – на стороне врага, а значит тоже враг и не достоин быть выслушан.
Вот почему в воинственных сообществах, какой бы войны дело ни касалось, всегда будет грызня между «своими» и постоянные чистки и расколы. То и дело будет передел границы между своими-чужими, и каждый, кто поддержал чужого или поддержал своего, поддержавшего чужого, или поддержал своего, поддержавшего своего, который поддержал чужого, стал чужим, то есть не просто не другом, а недругом и врагом.
Бесполезно пытаться построить воинственное сообщество с демократичными, миролюбивыми правилами внутри него. Можно создать еще две сотни новых «фемини-змов», все будет возвращаться на тот же круг. Если такие правила и заявляются, они не могут выполняться. Миролюбие и демократия предполагают уважение к альтернативным точкам зрения, готовность принять того, кто иначе смотрит на вопрос. Это несовместимо с идеей войны. Война – это такое обстоятельство, при котором не может быть разных точек зрения. Есть враги и они должны быть обезврежены, лучше уничтожены. С врагами нельзя сотрудничать, и всякий, кто сотрудничает с врагом, предает своих.
Таким образом, мир внутри сообщества может быть построен только двумя способами, и третьего не дано: 1) открытое сообщество должно быть антивоенным 2)военное сообщество должно быть закрытым.
1. Если сообщество открыто, то есть все участники сообщаются с внешним миром и их связи не подвергаются цензуре, миролюбие внутри сообщества может строиться только на антивоенной внешней политике. Никто никому не враг, поэтому каждый участник сообщества может свободно общаться со всеми вне сообщества. В этом случае он может озвучивать свою точку зрения, защищать любые группы людей, с которыми связан, и это не будет оскорблением для других участников сообщества, поскольку они никого не считают врагами. Если внешняя политика - военная (есть враг), обязательно начинается цензура связей и репрессии по принципу «замечен в связях с врагами» «лабирует интересы врага» и т.д. Это способ выживания военного сообщества.
2. Ужесточение цензуры военного сообщества обязательно приводит к тому, что сообщество становится закрытым. Это значит, что каждый участник сообщества либо сепарируется от внешнего мира, обрывая любые неформальные связи с неучастниками сообщества, либо отчитывается за каждый свой шаг в «стане врага». Это логичные и возникающие естественным путем процессы. Невозможно иметь военную внешнюю политику и при этом оставаться открытым миру. Невозможно так же сохранять демократию и плюрализм, поскольку это значит постоянное мирное взаимодействие с врагами напрямую и через посредников. Любое военное сообщество, чтобы выжить, должно стать закрытым, строго контролируемым и тоталитарным. Все прочие варианты нежизнеспособны.
«Как построить миролюбивое сообщество для феминисток, в котором бы действительно соблюдались правила взаимного уважения, демократии и ненасилия по отношению к женщинам?»
- Такое сообщество можно построить только в одном случае: если взять курс на антивоенную внешнюю политику. Политика сотрудничества, дипломатических переговоров, экономических реформ – это единственный путь, по которому можно двигаться к цели, не впадая в аффект и не превращаясь в свирепый зверинец со звериными законами внутри. И каким бы медленным ни выглядело мирное движение к цели, оно намного быстрей, чем путь войны, который не приведет к гуманной цели никогда, а приведет лишь к разрухе.
(Само собой, все написанное касается и событий в Украине тоже, просто о последнем больно писать).
«Почему такие страшные склоки и постоянные расколы в сообществах радикальных феминисток?»
- Потому что заявленная цель таких сообществ – война.
«Но война ведь не с женщинами, а с мужчинами! Почему же грызутся между собой?»
- Потому что на войне не может быть уважения к альтернативным точкам зрения. На войне есть враг и любые дискуссии на темы «насколько они нам враги?» «все ли?» «нельзя ли решить вопрос мирно?» «можно ли в каких-то вопросах сотрудничать с врагом и с теми, кто считает врагов друзьями?» расцениваются как предательство. «Друг моего врага – мой враг» - этот принцип работает всегда, когда враг считается настоящим врагом, то есть смертельно опасным зверем, недочеловеком («мразью») . Любой, кто подвергает сомнению эту мысль – на стороне врага, а значит тоже враг и не достоин быть выслушан.
Вот почему в воинственных сообществах, какой бы войны дело ни касалось, всегда будет грызня между «своими» и постоянные чистки и расколы. То и дело будет передел границы между своими-чужими, и каждый, кто поддержал чужого или поддержал своего, поддержавшего чужого, или поддержал своего, поддержавшего своего, который поддержал чужого, стал чужим, то есть не просто не другом, а недругом и врагом.
Бесполезно пытаться построить воинственное сообщество с демократичными, миролюбивыми правилами внутри него. Можно создать еще две сотни новых «фемини-змов», все будет возвращаться на тот же круг. Если такие правила и заявляются, они не могут выполняться. Миролюбие и демократия предполагают уважение к альтернативным точкам зрения, готовность принять того, кто иначе смотрит на вопрос. Это несовместимо с идеей войны. Война – это такое обстоятельство, при котором не может быть разных точек зрения. Есть враги и они должны быть обезврежены, лучше уничтожены. С врагами нельзя сотрудничать, и всякий, кто сотрудничает с врагом, предает своих.
Таким образом, мир внутри сообщества может быть построен только двумя способами, и третьего не дано: 1) открытое сообщество должно быть антивоенным 2)военное сообщество должно быть закрытым.
1. Если сообщество открыто, то есть все участники сообщаются с внешним миром и их связи не подвергаются цензуре, миролюбие внутри сообщества может строиться только на антивоенной внешней политике. Никто никому не враг, поэтому каждый участник сообщества может свободно общаться со всеми вне сообщества. В этом случае он может озвучивать свою точку зрения, защищать любые группы людей, с которыми связан, и это не будет оскорблением для других участников сообщества, поскольку они никого не считают врагами. Если внешняя политика - военная (есть враг), обязательно начинается цензура связей и репрессии по принципу «замечен в связях с врагами» «лабирует интересы врага» и т.д. Это способ выживания военного сообщества.
2. Ужесточение цензуры военного сообщества обязательно приводит к тому, что сообщество становится закрытым. Это значит, что каждый участник сообщества либо сепарируется от внешнего мира, обрывая любые неформальные связи с неучастниками сообщества, либо отчитывается за каждый свой шаг в «стане врага». Это логичные и возникающие естественным путем процессы. Невозможно иметь военную внешнюю политику и при этом оставаться открытым миру. Невозможно так же сохранять демократию и плюрализм, поскольку это значит постоянное мирное взаимодействие с врагами напрямую и через посредников. Любое военное сообщество, чтобы выжить, должно стать закрытым, строго контролируемым и тоталитарным. Все прочие варианты нежизнеспособны.
«Как построить миролюбивое сообщество для феминисток, в котором бы действительно соблюдались правила взаимного уважения, демократии и ненасилия по отношению к женщинам?»
- Такое сообщество можно построить только в одном случае: если взять курс на антивоенную внешнюю политику. Политика сотрудничества, дипломатических переговоров, экономических реформ – это единственный путь, по которому можно двигаться к цели, не впадая в аффект и не превращаясь в свирепый зверинец со звериными законами внутри. И каким бы медленным ни выглядело мирное движение к цели, оно намного быстрей, чем путь войны, который не приведет к гуманной цели никогда, а приведет лишь к разрухе.
(Само собой, все написанное касается и событий в Украине тоже, просто о последнем больно писать).
Пойду посплю, так от меня вреда меньше.
Хочу публично ответить на многочисленные вопросы в личку.
«Почему такие страшные склоки и постоянные расколы в сообществах радикальных феминисток?»
- Потому что заявленная цель таких сообществ – война.
«Но война ведь не с женщинами, а с мужчинами! Почему же грызутся между собой?»
- Потому что на войне не может быть уважения к альтернативным точкам зрения. На войне есть враг и любые дискуссии на темы «насколько они нам враги?» «все ли?» «нельзя ли решить вопрос мирно?» «можно ли в каких-то вопросах сотрудничать с врагом и с теми, кто считает врагов друзьями?» расцениваются как предательство. «Друг моего врага – мой враг» - этот принцип работает всегда, когда враг считается настоящим врагом, то есть смертельно опасным зверем, недочеловеком («мразью») . Любой, кто подвергает сомнению эту мысль – на стороне врага, а значит тоже враг и не достоин быть выслушан.
Вот почему в воинственных сообществах, какой бы войны дело ни касалось, всегда будет грызня между «своими» и постоянные чистки и расколы. То и дело будет передел границы между своими-чужими, и каждый, кто поддержал чужого или поддержал своего, поддержавшего чужого, или поддержал своего, поддержавшего своего, который поддержал чужого, стал чужим, то есть не просто не другом, а недругом и врагом.
Бесполезно пытаться построить воинственное сообщество с демократичными, миролюбивыми правилами внутри него. Можно создать еще две сотни новых «фемини-змов», все будет возвращаться на тот же круг. Если такие правила и заявляются, они не могут выполняться. Миролюбие и демократия предполагают уважение к альтернативным точкам зрения, готовность принять того, кто иначе смотрит на вопрос. Это несовместимо с идеей войны. Война – это такое обстоятельство, при котором не может быть разных точек зрения. Есть враги и они должны быть обезврежены, лучше уничтожены. С врагами нельзя сотрудничать, и всякий, кто сотрудничает с врагом, предает своих.
Таким образом, мир внутри сообщества может быть построен только двумя способами, и третьего не дано: 1) открытое сообщество должно быть антивоенным 2)военное сообщество должно быть закрытым.
1. Если сообщество открыто, то есть все участники сообщаются с внешним миром и их связи не подвергаются цензуре, миролюбие внутри сообщества может строиться только на антивоенной внешней политике. Никто никому не враг, поэтому каждый участник сообщества может свободно общаться со всеми вне сообщества. В этом случае он может озвучивать свою точку зрения, защищать любые группы людей, с которыми связан, и это не будет оскорблением для других участников сообщества, поскольку они никого не считают врагами. Если внешняя политика - военная (есть враг), обязательно начинается цензура связей и репрессии по принципу «замечен в связях с врагами» «лабирует интересы врага» и т.д. Это способ выживания военного сообщества.
2. Ужесточение цензуры военного сообщества обязательно приводит к тому, что сообщество становится закрытым. Это значит, что каждый участник сообщества либо сепарируется от внешнего мира, обрывая любые неформальные связи с неучастниками сообщества, либо отчитывается за каждый свой шаг в «стане врага». Это логичные и возникающие естественным путем процессы. Невозможно иметь военную внешнюю политику и при этом оставаться открытым миру. Невозможно так же сохранять демократию и плюрализм, поскольку это значит постоянное мирное взаимодействие с врагами напрямую и через посредников. Любое военное сообщество, чтобы выжить, должно стать закрытым, строго контролируемым и тоталитарным. Все прочие варианты нежизнеспособны.
«Как построить миролюбивое сообщество для феминисток, в котором бы действительно соблюдались правила взаимного уважения, демократии и ненасилия по отношению к женщинам?»
- Такое сообщество можно построить только в одном случае: если взять курс на антивоенную внешнюю политику. Политика сотрудничества, дипломатических переговоров, экономических реформ – это единственный путь, по которому можно двигаться к цели, не впадая в аффект и не превращаясь в свирепый зверинец со звериными законами внутри. И каким бы медленным ни выглядело мирное движение к цели, оно намного быстрей, чем путь войны, который не приведет к гуманной цели никогда, а приведет лишь к разрухе.
(Само собой, все написанное касается и событий в Украине тоже, просто о последнем больно писать).
«Почему такие страшные склоки и постоянные расколы в сообществах радикальных феминисток?»
- Потому что заявленная цель таких сообществ – война.
«Но война ведь не с женщинами, а с мужчинами! Почему же грызутся между собой?»
- Потому что на войне не может быть уважения к альтернативным точкам зрения. На войне есть враг и любые дискуссии на темы «насколько они нам враги?» «все ли?» «нельзя ли решить вопрос мирно?» «можно ли в каких-то вопросах сотрудничать с врагом и с теми, кто считает врагов друзьями?» расцениваются как предательство. «Друг моего врага – мой враг» - этот принцип работает всегда, когда враг считается настоящим врагом, то есть смертельно опасным зверем, недочеловеком («мразью») . Любой, кто подвергает сомнению эту мысль – на стороне врага, а значит тоже враг и не достоин быть выслушан.
Вот почему в воинственных сообществах, какой бы войны дело ни касалось, всегда будет грызня между «своими» и постоянные чистки и расколы. То и дело будет передел границы между своими-чужими, и каждый, кто поддержал чужого или поддержал своего, поддержавшего чужого, или поддержал своего, поддержавшего своего, который поддержал чужого, стал чужим, то есть не просто не другом, а недругом и врагом.
Бесполезно пытаться построить воинственное сообщество с демократичными, миролюбивыми правилами внутри него. Можно создать еще две сотни новых «фемини-змов», все будет возвращаться на тот же круг. Если такие правила и заявляются, они не могут выполняться. Миролюбие и демократия предполагают уважение к альтернативным точкам зрения, готовность принять того, кто иначе смотрит на вопрос. Это несовместимо с идеей войны. Война – это такое обстоятельство, при котором не может быть разных точек зрения. Есть враги и они должны быть обезврежены, лучше уничтожены. С врагами нельзя сотрудничать, и всякий, кто сотрудничает с врагом, предает своих.
Таким образом, мир внутри сообщества может быть построен только двумя способами, и третьего не дано: 1) открытое сообщество должно быть антивоенным 2)военное сообщество должно быть закрытым.
1. Если сообщество открыто, то есть все участники сообщаются с внешним миром и их связи не подвергаются цензуре, миролюбие внутри сообщества может строиться только на антивоенной внешней политике. Никто никому не враг, поэтому каждый участник сообщества может свободно общаться со всеми вне сообщества. В этом случае он может озвучивать свою точку зрения, защищать любые группы людей, с которыми связан, и это не будет оскорблением для других участников сообщества, поскольку они никого не считают врагами. Если внешняя политика - военная (есть враг), обязательно начинается цензура связей и репрессии по принципу «замечен в связях с врагами» «лабирует интересы врага» и т.д. Это способ выживания военного сообщества.
2. Ужесточение цензуры военного сообщества обязательно приводит к тому, что сообщество становится закрытым. Это значит, что каждый участник сообщества либо сепарируется от внешнего мира, обрывая любые неформальные связи с неучастниками сообщества, либо отчитывается за каждый свой шаг в «стане врага». Это логичные и возникающие естественным путем процессы. Невозможно иметь военную внешнюю политику и при этом оставаться открытым миру. Невозможно так же сохранять демократию и плюрализм, поскольку это значит постоянное мирное взаимодействие с врагами напрямую и через посредников. Любое военное сообщество, чтобы выжить, должно стать закрытым, строго контролируемым и тоталитарным. Все прочие варианты нежизнеспособны.
«Как построить миролюбивое сообщество для феминисток, в котором бы действительно соблюдались правила взаимного уважения, демократии и ненасилия по отношению к женщинам?»
- Такое сообщество можно построить только в одном случае: если взять курс на антивоенную внешнюю политику. Политика сотрудничества, дипломатических переговоров, экономических реформ – это единственный путь, по которому можно двигаться к цели, не впадая в аффект и не превращаясь в свирепый зверинец со звериными законами внутри. И каким бы медленным ни выглядело мирное движение к цели, оно намного быстрей, чем путь войны, который не приведет к гуманной цели никогда, а приведет лишь к разрухе.
(Само собой, все написанное касается и событий в Украине тоже, просто о последнем больно писать).
Пойду посплю, так от меня вреда меньше.
О дисбалансе в отношениях
В продолжение предыдущему посту предлагаю рассмотреть дисбаланс.
Дисбаланс не в пользу человека я буду называть отрицательным Д (-), а обратный дисбаланс положительным Д (+). По большому счету, слово «положительный» так же не верно, как и слово «польза», поскольку от дисбаланса не выигрывает никто (кроме зловещих каннибалов, но и с ними не все так просто, поэтому предлагаю этот вариант упразднить). Обычные люди страдают и от положительного дисбаланса и от отрицательного. По-разному, но нередко в равной степени.
Это важно понять не для того, чтобы «оправдать насильника» и снять с него ответственность, а для того, чтобы видеть механизм дисбаланса и уметь его разворачивать. Хотя и оправдать насильника не так плохо, куда хуже присваивать людям статус насильника как ярлык. Ответственности снятие ярлыка не снимает. Наоборот, помогает ее отработать.
Сильный дисбаланс всегда превращает отношения в так называемые насильственные. Это надо усвоить всем, особенно тем, кто делит мир на черное и белое, себя относит к разряду ангелов, а всех своих обидчиков - к разряду демонов. Любой ангел, оказавшись на стороне положительного дисбаланса, превращается в насильника. И я хочу рассказать, как это происходит.
То, что мы называем отношениями, это образование общего поля. При балансе оба партнера равномерно участвуют в поле, насыщенность для каждого одинакова, зависимость друг от друга равная, поэтому ни у кого нет стресса от таких отношений (стресс – это энергетическая дырка в поле). При дисбалансе у одного партнера возникает стресс в результате того, что его зависимость намного больше, чем зависимость партнера, он не чувствует контроля над ситуацией, ощущает свою беспомощность, неустойчивость. У второго партнера в то же самое время образуется избыток агрессии, поскольку поведение первого партнера, более влюбленного, это, по сути, постоянное вторжение в его личное пространство, постоянная попытка захвата его территории, иногда ласковая, манипулятивная, иногда достаточно агрессивная. Более влюбленный вынужден пробираться на территорию возлюбленного, поскольку только так он может сравнять зависимости и снизить стресс, но менее влюбленный не испытывает собственного желания увеличить близость и попытки второго воспринимает как завуалированное насилие, и поэтому сам отвечает агрессией в том или ином виде.
Пожалуйста, любители найти виноватого и повесить ему на грудь табличку «виновен», попытайтесь понять, что в данной ситуации виноватых нет. Ответственны оба, но только в том случае, если знаний и понимания хватает, чтобы правильно оценить эту ситуацию. Многим не хватает, и тогда до ответственности еще нужно дорасти, хоть это и печальное обстоятельство.
Что мешает правильно оценить ситуацию дисбаланса с обеих сторон?
Главное – это то, что ситуация дисбаланса с разных полюсов выглядит совершенно по-разному и это очень мешает поставить себя на место другого и понять его.
При отрицательном дисбалансе человек ощущает близость, которая в любой момент может исчезнуть, то есть одновременно близость и страх ее потерять. Внимание, он не чувствует, что близость есть только у него, он чувствует общую близость, поскольку физически невозможно представить, что вот человек рядом с тобой есть, а тебя рядом с ним нет. Это происходит из-за того, что разум человека, внутри которого разыгрываются все наши психические мистерии, имеет дело не с физическими телами, а с образами. Это физическое тело у человека одно, а образов его в сознаниях разных людей может быть множество. Но отследить этот факт и учесть его при анализе не так легко, для этого нужен некоторый навык. Поэтому неподготовленные к подобному осмыслению люди, ощущают взаимную близость, и это очень важно понять.
В то время, как для человека с положительным дисбалансом, партнер может быть и значим, но мало, для его партнера, у которого дисбаланс отрицателен, есть образ взаимной высокой значимости. Поэтому когда он ведет себя навязчиво и «липнет», он не чувствует вторжения в чужие границы, этих границ для него не существует, они в его личной картине давно позади. Поэтому лично он никакой агрессии не проявляет, но его партнер эту агрессию чувствует.
Представьте себе, как хитроумна ловушка дисбаланса: она строится на двух совершенно разных картинах в головах у двух людей. И от разницы этих двух пространств возникает вихревое образование и начинает дисбаланс увеличивать.
В принципе, вихрю все равно, он может и разнести людей подальше друг от друга, и это бывает очень часто, если способность систем к адаптации ниже, чем сила вихря. В тех же случаях, когда системы оказываются гибкими, а вихрь нарастает медленно, дисбаланс будет постепенно расти и усиливать оба полюса. На одном полюсе (отрицательном) будет расти стресс и одновременно сила аддикции (влюбленность) для компенсации этого стресса. На другом полюсе (положительном) будет расти агрессия и одновременно чувство вины.
Я пишу все это, потому что единственный помощник для выхода из подобных ловушек - это разум. Эволюционно разум дан людям для того, чтобы прогрессировать не в процессе отбора полезных генов, а в процессе переосмысления своего поведения, то есть быстрее и не только на видовом, но и на индивидуальном уровне. С помощью разума, собственного и коллективного, можно оценить и понять, что стресс-аддикция и агрессия-вина – закольцованные программы, из которых нет выхода, если не прервать кольцо.
Как аддикция усиливает стресс, а стресс усиливает аддикцию, я когда-то уже писала в «Энергетической яме» (обязательно открою этот и другие посты, просто попозже). Точно так же закольцована программа агрессия-вина-агрессия. Посмотрим, как это кольцо работает в ситуации типичного дисбаланса.
Представим себе мужчину с Д(-) и его женщину с Д(+). Если значимость партнера очень низка, но женщина остается в отношениях, значит ее удерживает в этих отношениях соображения какой-то полезности. При Д(-) в отношениях удерживает кайф (любовь, счастье, тепло, страсть и т.д) при Д(+) в отношениях удерживает польза или долг (который тоже польза, просто не для себя, но человек считает себя обязанным ее обеспечить). В нашем примере женщина, скорее всего, остается рядом с незначимым мужчиной, потому что он «любит ее», потому что «жаль его», потому что «нельзя разбрасываться такими», и потому что «другого пока нет». Можно сказать, что оба человека выбирают то, что выбирают: мужчина – жить с нелюбящей, но зато очень любимой женщиной и получать кайф от сближения, а женщина – жить с нелюбимым, но зато любящим мужчиной, и получать заботу и опеку по максимуму. Но что мы видим?
Так как у мужчины Д (-) работает кольцо аддикция-стресс-аддикция, он постоянно хочет больше, чем получает, и поэтому навязывает женщине свой контроль под видом заботы или упреков. После бурного конфликта, едва не потеряв любимую, он на время становится тихим и всем довольным, а потом опять пытается начать захват. Надо понять, что это не агрессия с его стороны, а естественная попытка выровнять баланс и снять стресс, который разрушает его. Да, он может говорить, что очень счастлив, потому что боится потерять и окунуться в еще больший стресс, но его «счастье» состоит из борьбы со стрессом, поэтому он, хоть и клянется «вести себя хорошо», снова и снова нарушает обещание. Выглядеть это может по-разному, он может вести себя интеллигентно или грубовато, ныть или наезжать, суть одна – его партнерша ощущает нарушение тех условий, на которых она согласилась оставаться в отношениях. Ее условия – комфорт, необходимая ей поддержка и свобода. Она не желает, чтобы «ей мотали нервы» «выносили мозг» «лишали кислорода», и она, по-своему права. Когда мужчина нарушает условия договора, она испытывает агрессию и ненавидит его, она хочет его наказать, оскорбить или унизить, потому что считает, что он обманул ее, заверяя, что "счастлив просто от того, что она есть" и у него нет никаких претензий, что он притворился покорным, а сам мнит себя ее хозяином и предъявляет права.
Вот что надо понять: не может быть никакого договора о «добровольном» дисбалансе. Партнер Д(-) может пообещать, но не сможет исполнить этот договор, его организм будет стараться выровнять баланс, и тогда партнер Д(+) обязательно будет в праведном гневе. Если Д(+) – женщина, она будет оскорблять партнера и унижать, и это неминуемо. Если Д(+) – мужчина, он может прибегать к физической силе, если воспитан в традиции «мужчина должен отражать агрессию физически». Но агрессию будут проявлять оба, в полной уверенности, что эта агрессия - защитная, в ответ на нападение. Единственный способ не проявлять агрессию для человека с Д(+) – срочно покинуть ситуацию дисбаланса, разорвать отношения, сбежать.
Но сделать это бывает очень трудно, поскольку кольцо агрессия-вина-агрессия после выплеска всегда переходит ко своей второй фазе – вине. Перепуганный партнер Д(-) после конфликта становится тихим и покорным, похожим на светлого агнца, невинного мученника, и если партнер Д(+) человек совестливый, не жестокий, его охватывает чувство вины. Он ощущает раскаяние и, может быть, сильную усталость, он винит не только себя, но и себя тоже. Поэтому он с удовольствием идет на примирение и пара в 1000-ый раз заключает «договор». «Хватит ссориться, давай жить как люди, не делай вот этого и я буду нормальной» - говорит Д(+) и Д(-) со слезами на глазах клянется.
По исчерпании фазы вины с одной стороны и усиления аддикции с другой стороны, опять начинаются фазы «стресс» у Д(-) и «агрессия» у Д(+). И это может длиться почти бесконечно, пока не наступит какой-то предел, который почти всегда бывает страшным, или пока не вмешается чудо, которое обычно не желает вмешиваться, или пока не победит разум, который от дисбаланса искажается так, что победить ему очень сложно, тем более без помощи со стороны.
Как выходить из запущенных колец – тема сложная и отдельная. Для начала нужно эти кольца отследить и увидеть.
В продолжение предыдущему посту предлагаю рассмотреть дисбаланс.
Дисбаланс не в пользу человека я буду называть отрицательным Д (-), а обратный дисбаланс положительным Д (+). По большому счету, слово «положительный» так же не верно, как и слово «польза», поскольку от дисбаланса не выигрывает никто (кроме зловещих каннибалов, но и с ними не все так просто, поэтому предлагаю этот вариант упразднить). Обычные люди страдают и от положительного дисбаланса и от отрицательного. По-разному, но нередко в равной степени.
Это важно понять не для того, чтобы «оправдать насильника» и снять с него ответственность, а для того, чтобы видеть механизм дисбаланса и уметь его разворачивать. Хотя и оправдать насильника не так плохо, куда хуже присваивать людям статус насильника как ярлык. Ответственности снятие ярлыка не снимает. Наоборот, помогает ее отработать.
Сильный дисбаланс всегда превращает отношения в так называемые насильственные. Это надо усвоить всем, особенно тем, кто делит мир на черное и белое, себя относит к разряду ангелов, а всех своих обидчиков - к разряду демонов. Любой ангел, оказавшись на стороне положительного дисбаланса, превращается в насильника. И я хочу рассказать, как это происходит.
То, что мы называем отношениями, это образование общего поля. При балансе оба партнера равномерно участвуют в поле, насыщенность для каждого одинакова, зависимость друг от друга равная, поэтому ни у кого нет стресса от таких отношений (стресс – это энергетическая дырка в поле). При дисбалансе у одного партнера возникает стресс в результате того, что его зависимость намного больше, чем зависимость партнера, он не чувствует контроля над ситуацией, ощущает свою беспомощность, неустойчивость. У второго партнера в то же самое время образуется избыток агрессии, поскольку поведение первого партнера, более влюбленного, это, по сути, постоянное вторжение в его личное пространство, постоянная попытка захвата его территории, иногда ласковая, манипулятивная, иногда достаточно агрессивная. Более влюбленный вынужден пробираться на территорию возлюбленного, поскольку только так он может сравнять зависимости и снизить стресс, но менее влюбленный не испытывает собственного желания увеличить близость и попытки второго воспринимает как завуалированное насилие, и поэтому сам отвечает агрессией в том или ином виде.
Пожалуйста, любители найти виноватого и повесить ему на грудь табличку «виновен», попытайтесь понять, что в данной ситуации виноватых нет. Ответственны оба, но только в том случае, если знаний и понимания хватает, чтобы правильно оценить эту ситуацию. Многим не хватает, и тогда до ответственности еще нужно дорасти, хоть это и печальное обстоятельство.
Что мешает правильно оценить ситуацию дисбаланса с обеих сторон?
Главное – это то, что ситуация дисбаланса с разных полюсов выглядит совершенно по-разному и это очень мешает поставить себя на место другого и понять его.
При отрицательном дисбалансе человек ощущает близость, которая в любой момент может исчезнуть, то есть одновременно близость и страх ее потерять. Внимание, он не чувствует, что близость есть только у него, он чувствует общую близость, поскольку физически невозможно представить, что вот человек рядом с тобой есть, а тебя рядом с ним нет. Это происходит из-за того, что разум человека, внутри которого разыгрываются все наши психические мистерии, имеет дело не с физическими телами, а с образами. Это физическое тело у человека одно, а образов его в сознаниях разных людей может быть множество. Но отследить этот факт и учесть его при анализе не так легко, для этого нужен некоторый навык. Поэтому неподготовленные к подобному осмыслению люди, ощущают взаимную близость, и это очень важно понять.
В то время, как для человека с положительным дисбалансом, партнер может быть и значим, но мало, для его партнера, у которого дисбаланс отрицателен, есть образ взаимной высокой значимости. Поэтому когда он ведет себя навязчиво и «липнет», он не чувствует вторжения в чужие границы, этих границ для него не существует, они в его личной картине давно позади. Поэтому лично он никакой агрессии не проявляет, но его партнер эту агрессию чувствует.
Представьте себе, как хитроумна ловушка дисбаланса: она строится на двух совершенно разных картинах в головах у двух людей. И от разницы этих двух пространств возникает вихревое образование и начинает дисбаланс увеличивать.
В принципе, вихрю все равно, он может и разнести людей подальше друг от друга, и это бывает очень часто, если способность систем к адаптации ниже, чем сила вихря. В тех же случаях, когда системы оказываются гибкими, а вихрь нарастает медленно, дисбаланс будет постепенно расти и усиливать оба полюса. На одном полюсе (отрицательном) будет расти стресс и одновременно сила аддикции (влюбленность) для компенсации этого стресса. На другом полюсе (положительном) будет расти агрессия и одновременно чувство вины.
Я пишу все это, потому что единственный помощник для выхода из подобных ловушек - это разум. Эволюционно разум дан людям для того, чтобы прогрессировать не в процессе отбора полезных генов, а в процессе переосмысления своего поведения, то есть быстрее и не только на видовом, но и на индивидуальном уровне. С помощью разума, собственного и коллективного, можно оценить и понять, что стресс-аддикция и агрессия-вина – закольцованные программы, из которых нет выхода, если не прервать кольцо.
Как аддикция усиливает стресс, а стресс усиливает аддикцию, я когда-то уже писала в «Энергетической яме» (обязательно открою этот и другие посты, просто попозже). Точно так же закольцована программа агрессия-вина-агрессия. Посмотрим, как это кольцо работает в ситуации типичного дисбаланса.
Представим себе мужчину с Д(-) и его женщину с Д(+). Если значимость партнера очень низка, но женщина остается в отношениях, значит ее удерживает в этих отношениях соображения какой-то полезности. При Д(-) в отношениях удерживает кайф (любовь, счастье, тепло, страсть и т.д) при Д(+) в отношениях удерживает польза или долг (который тоже польза, просто не для себя, но человек считает себя обязанным ее обеспечить). В нашем примере женщина, скорее всего, остается рядом с незначимым мужчиной, потому что он «любит ее», потому что «жаль его», потому что «нельзя разбрасываться такими», и потому что «другого пока нет». Можно сказать, что оба человека выбирают то, что выбирают: мужчина – жить с нелюбящей, но зато очень любимой женщиной и получать кайф от сближения, а женщина – жить с нелюбимым, но зато любящим мужчиной, и получать заботу и опеку по максимуму. Но что мы видим?
Так как у мужчины Д (-) работает кольцо аддикция-стресс-аддикция, он постоянно хочет больше, чем получает, и поэтому навязывает женщине свой контроль под видом заботы или упреков. После бурного конфликта, едва не потеряв любимую, он на время становится тихим и всем довольным, а потом опять пытается начать захват. Надо понять, что это не агрессия с его стороны, а естественная попытка выровнять баланс и снять стресс, который разрушает его. Да, он может говорить, что очень счастлив, потому что боится потерять и окунуться в еще больший стресс, но его «счастье» состоит из борьбы со стрессом, поэтому он, хоть и клянется «вести себя хорошо», снова и снова нарушает обещание. Выглядеть это может по-разному, он может вести себя интеллигентно или грубовато, ныть или наезжать, суть одна – его партнерша ощущает нарушение тех условий, на которых она согласилась оставаться в отношениях. Ее условия – комфорт, необходимая ей поддержка и свобода. Она не желает, чтобы «ей мотали нервы» «выносили мозг» «лишали кислорода», и она, по-своему права. Когда мужчина нарушает условия договора, она испытывает агрессию и ненавидит его, она хочет его наказать, оскорбить или унизить, потому что считает, что он обманул ее, заверяя, что "счастлив просто от того, что она есть" и у него нет никаких претензий, что он притворился покорным, а сам мнит себя ее хозяином и предъявляет права.
Вот что надо понять: не может быть никакого договора о «добровольном» дисбалансе. Партнер Д(-) может пообещать, но не сможет исполнить этот договор, его организм будет стараться выровнять баланс, и тогда партнер Д(+) обязательно будет в праведном гневе. Если Д(+) – женщина, она будет оскорблять партнера и унижать, и это неминуемо. Если Д(+) – мужчина, он может прибегать к физической силе, если воспитан в традиции «мужчина должен отражать агрессию физически». Но агрессию будут проявлять оба, в полной уверенности, что эта агрессия - защитная, в ответ на нападение. Единственный способ не проявлять агрессию для человека с Д(+) – срочно покинуть ситуацию дисбаланса, разорвать отношения, сбежать.
Но сделать это бывает очень трудно, поскольку кольцо агрессия-вина-агрессия после выплеска всегда переходит ко своей второй фазе – вине. Перепуганный партнер Д(-) после конфликта становится тихим и покорным, похожим на светлого агнца, невинного мученника, и если партнер Д(+) человек совестливый, не жестокий, его охватывает чувство вины. Он ощущает раскаяние и, может быть, сильную усталость, он винит не только себя, но и себя тоже. Поэтому он с удовольствием идет на примирение и пара в 1000-ый раз заключает «договор». «Хватит ссориться, давай жить как люди, не делай вот этого и я буду нормальной» - говорит Д(+) и Д(-) со слезами на глазах клянется.
По исчерпании фазы вины с одной стороны и усиления аддикции с другой стороны, опять начинаются фазы «стресс» у Д(-) и «агрессия» у Д(+). И это может длиться почти бесконечно, пока не наступит какой-то предел, который почти всегда бывает страшным, или пока не вмешается чудо, которое обычно не желает вмешиваться, или пока не победит разум, который от дисбаланса искажается так, что победить ему очень сложно, тем более без помощи со стороны.
Как выходить из запущенных колец – тема сложная и отдельная. Для начала нужно эти кольца отследить и увидеть.